Реактивация стабильности и покоя
ЧТО ТАКОЕ ПАНИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО?
Современные исследования говорят о паническом расстройстве (ПР) как о приобретенном страхе некоторых телесных ощущений, и как о поведенческой реакции на предвосхищение этих телесных ощущений и их негативной кульминации — развернутом приступе паники.
Приступы паники представляют собой отдельные эпизоды сильного волнения или страха, сопровождающиеся характерными физическими и когнитивными симптомами.
Приступ паники (ПП) отличается внезапным началом и небольшой продолжительностью в отличие от постепенно развивающегося тревожного возбуждения.
Приступы паники при ПР часто возникают неожиданно, т. е., по мнению клиента, без всяких очевидных причин и в самое неподходящее время.
Подобно всем основным эмоциям ПП сопровождаются непреодолимым стремлением к деятельности; чаще всего возникает желание спастись бегством, гораздо реже появляется настоятельная потребность вступить в борьбу.
Считается, что паника активирует систему «борьбы-бегства». Она обычно сопровождаются возбуждением вегетативной нервной системы, что необходимо для обеспечения реактивности по типу «бегства-борьбы». Само ощущение неизбежной угрозы или опасности, например смерти, утраты контроля, насмешек со стороны окружающих, вызывает эту реакцию.
Стремление спастись, возбуждение периферической нервной системы и восприятие угрозы не обязательно присутствуют в каждом случае паники; периодически возникают расхождения между системами поведенческой, вербальной и физиологической реактивности.
40% панических приступов не сопровождаются повышением частоты сердечных сокращений. Поскольку такое расхождение между физиологической и вербальной реактивностью более характерно для не очень угрожающих ситуаций, считается, что сообщения о панике в отсутствие активации вегетативной нервной системы соответствуют скорее тревоге ожидания, а не панике в общепринятом смысле этого слова.
Клиенты с паническим расстройством гораздо чаще, чем субъекты с низкой тревожностью, сообщают о нарушениях сердечного ритма, когда в действительности аритмии у них не наблюдается. Повышенное внимание к признакам возбуждения вегетативной нервной системы и интерпретация этих сигналов как угрожающих могут привести к тому, что клиент ощущает сердечный приступ, которого нет на самом деле.
Еще одним примером рассогласования различных систем реактивности является отрицание ощущений угрозы или опасности, несмотря на признаваемый выраженный страх - «неосознаваемая паника».
Стремление спасаться бегством иногда подавляется вследствие ситуационных потребностей продолжать двигаться вперед, не отступать, например, при желании выглядеть настоящим мужчиной или по профессиональной необходимости; таким образом, возникает несоответствие между поведенческой реакцией, с одной стороны, и вербальной и физиологической реакцией.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАНИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА
Распространенность ПР, по данным эпидемиологических исследований, составляет 1,9–3,6%. В 2–3 раза чаще оно наблюдается у женщин в возрасте 20–30 лет. В современной американской классификации DSM-IV паническое расстройство включено в класс «Тревожные расстройства» и подразделяется на две самостоятельные рубрики: «Паническое расстройство без агорафобии» и «Паническое расстройство с агорафобией».
Вслед за DSM-IV в Международную классификацию психических болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) были включены панические расстройства в рубрику «Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства». В этой рубрике «Панические расстройства» вошли в класс «Другие тревожные расстройства», а «Агорафобия с паническим расстройством» — в класс «Тревожно-фобические расстройства». При этом отечественные исследователи справедливо оценивают симптомокомплекс «паническое расстройство» как нозологически неспецифический, который может наблюдаться не только при неврозах, но и при аффективных расстройствах (депрессиях), различных формах шизофрении.
Основным (ядерным) синдромом панического расстройства являются повторные, неожиданно возникающие панические атаки.
Приступ паники обычно возникает на фоне психогении (кульминация конфликта, острые стрессовые воздействия), а также биологических (гормональная перестройка, начало половой жизни, аборты, прием гормональных средств) и физиогенных (алкогольные эксцессы, первый прием наркотиков, инсоляция, физическая нагрузка) факторов. Паническая атака, однако, может возникнуть и аутохтонно, при отсутствии предшествовавшего эмоционального и физического напряжения, на фоне повседневной деятельности клиента.
Симптомы панического приступа возникают неожиданно, приступ развивается быстро, достигая своего пика за 10 мин. Обычная его длительность 20–30 мин, реже — около часа.
Большая длительность приступа заставляет усомниться в правильности квалификации панического расстройства. Важно, что в отличие от многих пароксизмальных состояний для панической атаки не характерен продромальный период (аура).
Послеприступный период характеризуется общей слабостью, разбитостью. Некоторая часть клиентов сообщает об ощущении «облегчения» после завершения приступа. Наличие постприступных спутанности и сна делает диагноз панической атаки сомнительным. Частота приступа варьирует от ежедневных до одного в несколько месяцев. Обычно у клиентов возникают 2–4 приступа в неделю.
Приступ паники характеризуется вегетативными и психическими нарушениями. К последним относятся аффективные расстройства, фобии, деперсонализационно-дереализационные нарушения, истеро-конверсионная симптоматика и сенестопатии.
Наиболее частыми и постоянными при панической атаке являются нарушения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Нередко клиенты, описывая приступ, сообщают о внезапно начавшемся «сильном сердцебиении», ощущении «перебоев», «остановки», дискомфорта или боли в области сердца.
Большинство панических атак сопровождаются подъемом артериального давления (АД), цифры которого могут быть достаточно значительными. По мере развития состояния цифры АД снижаются параллельно дезактуализации страха, что может служить надежным диагностическим критерием при дифференциальной диагностике гипертонической болезни с кризовым течением и панического расстройства.
Наиболее выраженные нарушения в дыхательной системе: затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха с одышкой и гипервентиляцией, «чувство удушья». Описывая приступ, клиенты сообщают, что «перехватило горло», «перестал поступать воздух», «стало душно». Именно эти ощущения заставляют клиента открывать окна, балкон, искать «свежий воздух».
Приступ может начинаться с ощущения удушья, и в этих случаях страх смерти возникает как следствие «затруднения» дыхания. Реже при панической атаке наблюдаются желудочно-кишечные расстройства, такие, как тошнота, рвота, отрыжка, неприятные ощущения в эпигастрии. Как правило, в момент криза наблюдаются головокружение, потливость, тремор с чувством озноба, «волны» жара и холода, парестезии, похолодание кистей и стоп.
Психические составляющие панических приступов включают в себя в первую очередь эмоционально окрашенные фобии (страх смерти, страх катастрофы с сердцем, инфаркта, инсульта, падения, «утраты контроля» или «страх сумасшествия»). Возможны также дисфорические проявления (раздражительность, обида, агрессия), а также депрессивные — с тоской, подавленностью, безысходностью, жалостью к себе.
В то же время наблюдаются панические атаки, при которых отчетливых эмоциональных нарушений выявить не удается. В последние годы особый интерес вызывают панические атаки без страха. Названия этих приступов имеют много синонимов: «паника без паники», «соматически проявляющаяся паника», «алекситимическая паника», «маскированная тревога».
Подобные состояния часто наблюдаются у больных, обращающихся за первичной медицинской помощью в отделения кардиологии и неврологии, и крайне редко встречаются среди клиентов психиатрических клиник.
Истеро-конверсионные (функционально-неврологические) расстройства при приступах представлены чаще всего «чувством кома в горле», афонией, мутизмом, онемением или слабостью в конечностях; также отмечаются атаксия и вытягивание, «выворачивание», «скрючивание» рук. Редко наблюдаются дереализационные и деперсонализационные расстройства: «дурнота» в голове, «сноподобное состояние», чувство «отдаленности и отделенности» окружающего (так называемая «невротическая», или «истерическая», деперсонализация).
ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ПАНИКИ
Приблизительно 3-5% населения испытывало приступы паники за последние 12 месяцев, хотя большинство этих людей не отвечают другим критериям панического расстройства.
Приступы паники характерны для множества самых разных тревожных расстройств и расстройств настроения и не обязательно являются признаком ПР.
Отличительной особенностью панического расстройства являются не сами по себе ПП; обязательным условием служит дополнительная тревога по поводу повторения приступов или их последствий либо же выраженные изменения поведения в связи с ПП.
Сопутствующая тревога, тревога по поводу возникновения ПП в сочетании с представлениями о катастрофических ее последствиях отличают человека с ПР от случаев преходящей субклинической паники, а также от страдающих другими тревожными расстройствами, проявляющимися в том числе паникой.
ПРИРОДА ПАНИКИ
Паника рассматривается я как приобретенный страх физических ощущений, особенно тех, которые связаны с возбуждением вегетативной нервной системы. Психологическая и биологическая предрасположенность способствует повышению восприимчивости к признакам активации вегетативной нервной системы и ошибочной интерпретации этих сигналов как свидетельства надвигающейся катастрофы.
Фактор повышенной чувствительности. Физиологическая ранимость может быть определена как повышенная реактивность вегетативной нервной системы. Эмпирически подтверждено и наличие психологической уязвимости, т. е. склонность к восприятию тревоги как вредного явления, известная как «тревожная сенситивность».
Определенный в процессе тестирования уровень тревожной сенситивности является более надежным предиктором приступов паники в прошлом по сравнению с более общими показателями негативного аффекта и тревожности как свойства личности.
По уровню тревожной сенситивности можно судить о риске возникновения приступов паники спустя пять недель после острого военного стресса.
Склонность считать тревогу, в частности ее физические симптомы, опасной, вероятно, ведет свое начало с неприятных переживаний из личного опыта (например, связанных с болезнью или ранением), наблюдения за другими людьми (например, серьезно болеющими клиентами или умирающими родственниками, а также членами семьи, страдающими ипохондрией и выражающими беспокойство по поводу своих физических ощущений), и/или информационных сообщений (например, предостережения родителей или избыточное внимание к физическому благополучию).
С тревожной сенситивностью связано повышенное избирательное внимание к соматическим симптомам. Клиенты с ПР гораздо лучше ощущают и распознают соматические признаки возбуждения.
Наряду с повышенной восприимчивостью к соматическим признакам возбуждения вегетативной нервной системы и ошибочной трактовкой их как опасных способность распознавать эти соматические симптомы может предрасполагать к возникновению панического расстройства.
Первые приступы паники. В абсолютном большинстве случаев первые приступы паники возникают вне дома — во время управления автомобилем или ходьбы, на работе или в школе; в общественном месте; в автобусе, самолете, метро или в ситуации социальной оценки.
К ситуациям, предрасполагающим к возникновению первых ПП, относятся те, в которых физические ощущения могут быть расценены как особенно угрожающие в связи с возможностью нарушения функционирования (например, при управлении автомобилем), попадания в ловушку (например, в самолете или на эскалаторе), негативной социальной оценки (например, на работе, во время формальных социальных событий) или утраты безопасности (например, незнакомое место). Ощущение нахождения в ловушке может быть особенно значимым в плане последующего развития агорафобии.
Многие клиенты с ПР (48%) сообщают о появлении сходных ощущений меньшей интенсивности еще до первого приступа паники. Переживание в прошлом сердечно-сосудистой симптоматики и удушья является значимым предиктором приступов паники и панического расстройства. Вероятно, подобные переживания отражают общую реактивность вегетативной нервной системы, что впоследствии проявляется в виде развернутого панического приступа лишь тогда, когда возбуждение происходит в угрожающем контексте или напряженных ситуациях (т. е. когда такие ощущения с большей вероятностью будут расценены как угрожающие).
Факторы, поддерживающие тревожное состояние. Острая «боязнь страха», развивающаяся после первых панических приступов, связана со страхом определенных физических ощущений, сопровождающих приступы паники (например, учащенное сердцебиение, головокружение, парестезии). Этот страх обусловлен двумя факторами.
В основе первого из них лежит «интероцептивное обусловливание», т. е. условно выработанная боязнь некоторых внутренних ощущений (в частности, учащенного сердцебиения), которые в представлении человека связаны с выраженным страхом, болью или неприятными переживаниями.
Идея обусловливания согласуется с травматическим происхождением приступов паники, которые часто наблюдаются персоналом отделений неотложной медицинской помощи, а также с яркими воспоминаниями о первом приступе паники даже по прошествии 20 лет.
Интероцептивное обусловливание довольно устойчиво к угасанию и может быть «бессознательным». Таким образом, интероцептивно обусловленная реакция на страх не зависит от сознательного восприятия запускающих эту реакцию факторов. Следовательно, приступы паники, которые на первый взгляд возникают как гром среди ясного неба, на самом деле имеют в своей основе минимальные изменения в физическом состоянии клиента, которые он не сразу замечает. Так, незначительное колебание артериального давления может вызвать страх, поскольку в прошлом человек испытал ужас из- за значительного повышения давления.
Подобно интероцептивному обусловливанию, ошибочное толкование, по-видимому, проявляется как на сознательном, так и на бессознательном уровне, т. е. индивид может принимать физические ощущения за признаки надвигающейся катастрофы, не отдавая себе в этом отчет, отсюда и впечатление о внезапном возникновении приступов паники.
Концепция «боязни страха» ("fear-of-fear") имеет эмпирическое подтверждение. Клиенты, страдающие паническим расстройством, твердо убеждены в неизбежности физического или психического ущерба вследствие телесных ощущений, связанных с приступами паники, и страшатся этого. Такие люди склонны интерпретировать свои физические ощущения как опасные, а также преимущественно употреблять слова, относящиеся к физической угрозе (например, «заболевание» и «несчастье»), и слова, характеризующие катастрофические события (типа «смерть» или «психически ненормальный). Кроме того, они чаще боятся процедур, сопряженных с появлением физических ощущений, напоминающих о приступах паники, в том числе безобидных нагрузок на сердечно-сосудистую, дыхательную и вестибулярную системы, и тем более всяких инвазивных вмешательств (например, вдыхания углекислого газа).
Эти люди боятся признаков возбуждения вегетативной нервной системы даже в отсутствие самого возбуждения, что объясняется механизмом ложной физиологической обратной связи. При этом ложное толкование симптомов вызывает страх, а переоценка ситуации его уменьшает. Например, люди с паническим расстройством и субклиническими проявлениями паники сообщают о значительном ослаблении тревоги во время экспериментальных провокационных процедур типа гипервентиляции и вдыхания углекислого газа, когда считают эту процедуру безопасной или поддающейся контролю, если рядом находится заслуживающий доверия человек, а также после психотерапевтического вмешательства, снижающего страх телесных ощущений.
Страх телесных ощущений отличается от страхов, связанных с внешними стимулами, рядом особенностей. Во-первых, возбуждение вегетативной нервной системы, вызванное страхом, в свою очередь усиливает пугающие ощущения, замыкая тем самым порочный круг страха и ощущений. Этот цикл воспроизводится до полного истощения нервной системы или до обретения чувства безопасности. Напротив, страх внешних стимулов не способствует подкреплению объекта страха.
Факторы, инициирующие приступы паники (т. е. телесные ощущения), не всегда очевидны, из-за чего создается впечатление, что приступы паники возникают неожиданно, как гром среди ясного неба.
Даже в тех случаях, когда интероцептивные знаки явно заметны, они ведут себя менее предсказуемо по сравнению с внешними стимулами. В- третьих, от телесных ощущений, как правило, гораздо труднее избавиться, чем от внешних объектов; т. е. ощущения сравнительно плохо поддаются контролю. Непредсказуемость и невозможность вмешаться усиливают общую тревогу по поводу надвигающихся неприятных событий и приступов паники.
Считается, что непредсказуемый характер тревоги и паники способствует усилению хронических тревожных предчувствий и поддержанию тревожного ожидания по поводу повторения паники.
Тревожные предчувствия повышают риск возникновения паники, способствуя усилению ощущений, которые закрепились в качестве условно-рефлекторных сигналов для паники, и/или повышая восприимчивость к этим телесным ощущениям.
Порочный круг паники и тревожных предчувствий. Кроме того, считается, что страх телесных ощущений усиливается в результате избегающего поведения.
В качестве примера можно привести привычку держаться за людей или предметы из боязни упасть в обморок, сидеть не шевелясь из-за страха сердечного приступа, медленно двигаться или не проявлять активности из боязни показаться смешным.
Тревога проявляется в специфических контекстах, когда ее последствия могут быть особенно ощутимы (например, в ситуациях, связанных с нарушением функционирования, попаданием в ловушку, негативной социальной оценкой и небезопасной обстановкой). Эти тревоги усиливают проявления агорафобии, которая, в свою очередь, питает страх телесных ощущений.
ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ ПАНИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА
- Одышка, чувство нехватки воздуха;
- учащение, усиление или перебои сердцебиения;
- давление, боль или чувство дискомфорта в грудной клетке;
- головокружение, ощущение неустойчивости, головные боли;
- боли в области сердца разнообразного характера - ощущения давления, сжатия, жжения, покалывания и др.;
- ощущение внутренней дрожи;
- подрагивание рук и ног или выраженная дрожь;
- чувство слабости, вялости, ватности ног и рук;
- потливость или обильное потоотделение;
- чувство тошноты, дурноты;
- чувство боли или дискомфорта в области желудка или брюшной полости
- чувство онемения, покалывания в различных частях тела;
- приливы жара или озноба.
Для диагностики панического расстройства необходимо наличие четырех или более из вышеперечисленных типичных симптомов. Помимо соматических симптомов при паническом расстройстве отмечается ряд симптомов измененного психического реагирования:
- ощущение нереальности происходящего вокруг;
- ощущение собственной измененности;
- интенсивная тревога разного содержания,
- страх утраты контроля,
- страх потери сознания,
- страх смерти вследствие удушья, остановки сердца или другой телесной катастрофы,
- страх сойти с ума.
На основе соотношения типичных и атипичных признаков паники можно высчитать "Индекс типичности ПА":
ИТ=ΣТ – ΣА / ΣТ
где ИТ – индекс типичности; ΣТ – сумма типичных признаков; ΣА – сумма атипичных признаков.
Если ИТ от 1,0 до 0,41, то выставляется ПА, если ИТ менее 0,41, то выставляется психогенный припадок.
Приступы тревоги такого рода могут возникать внезапно, непредсказуемо, без психологически понятных причин при отсутствии реальной угрозы для жизни.
Следует особо подчеркнуть, что многочисленные клинические исследования показывают: паническое расстройство не представляет угрозы для жизни и не приводит к тем тяжелым исходам, которых так опасаются клиенты (инсульты, инфаркты и т.д.).
Нередко у клиентов с паническим расстройством возникают трудности социального порядка: проблемы в общении, в семейной и профессиональной жизни. У 10-15% клиентов паническими расстройствами снижена трудоспособность, возникают финансовые трудности.
Типичные осложнения при паническом расстройстве:
- тревога ожидания очередного приступа приводит к поведению избегания - происходит сужение социального пространства жизни (отказ от посещений публичных мест, поездок на транспорте, общения, а в тяжелых случаях - вплоть до невозможности выйти из дома);
- болезненная озабоченность здоровьем, сосредоточенность всей психической жизни на отслеживании своего физического состояния, нерациональные посещения врачей и прохождение лабораторных обследований;
- развитие вторичной депрессии из-за затяжной тяжелой симптоматики и утраты надежды на выздоровление (вторичная депрессия отмечается в 70% случаев панического расстройства);
- злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами, к которым больные прибегают с целью снятия напряжения, приводит к возникновению различных форм зависимости в 20% случаев панического расстройства.
ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ПАНИТЧЕСКИХ АТАК
Биологические факторы панического расстройства. Биологические теории возникновения панических расстройств предполагают связь различных нейромедиаторных систем (катехоламиновой, ГАМК-эргической, серотонинэргической) с возникновением эпизодических приступов пароксизмальной тревоги. Нейроанатомические исследования установили, что раздражение отдельных структур мозга (лимбической области, височной и корковой зон) сопровождается появлением тревоги и страха. Высказывается точка зрения, что повышение уровня лактата натрия в сыворотке крови является пусковым фактором приступа тревоги. Способностью провоцировать приступы паники обладает двуокись углерода (СО2) при повышении ее концентрации в воздухе до 5%. Существует теория генетической предрасположенности к паническому расстройству.
Психологические факторы панического расстройства. Центральную роль в происхождении панических атак играет эмоция тревоги. При этом важно отметить, что большинство клиентов хорошо осознают описанные выше соматовегетативные симптомы и интерпретируют эти телесные ощущения как признаки грозного соматического заболевания.
Ведущая роль тревоги в развитии приступа, как правило, не осознается вообще. Почему это происходит? Дело в том, что приступу, как правило, предшествуют определенные сдвиги, которые могут иметь различную природу:
- переутомление вследствие перегрузок, длительного недосыпания;
- прием алкоголя или психоактивных средств;
- различные соматические заболевания;
- переживание интенсивных отрицательных эмоций, в том числе и в межличностных конфликтах.
Все эти физические и психологические стрессоры вызывают изменения в состоянии вегетативной нервной системы и как следствие этого - изменяют обычное течение физиологических процессов в организме. Например, на фоне переутомления может возникнуть состояние слабости с головокружением, при приеме психоактивных веществ - учащенное сердцебиение, тошнота, дрожь; после ссоры - учащенное сердцебиение, дрожь, нехватка воздуха. Человек замечает эти сдвиги и может реагировать на них по-разному. Одна из возможных реакций - "со мной что-то не так! С моим организмом происходит что-то опасное!". Такая мысль неизбежно порождает чувство тревоги. Тревога, в свою очередь, как и всякая другая эмоция, сопровождается интенсивными физиологическими изменениями. На фоне выброса адреналина появляются учащенное сердцебиение, одышка, дрожь и т.д.
Эти симптомы тревоги суммируются с изначальными легкими физиологическими сдвигами и приводят к их мощному усилению. Возникающая физиологическая буря вызывает мысль о надвигающейся катастрофе (обмороке, публичном позоре, сумасшествии и даже смерти). Тревога переходит в ужас и панику.
После пережитого приступа паники человек, как правило, испытывает слабость, что подтверждает опасения о наличии тяжелого заболевания. Впоследствии может возникнуть избегание ситуаций, в которых развивались панические приступы, а также ситуаций, в которых может быть затруднено получение быстрой медицинской помощи.
Избегание - важный психологический фактор утяжеления заболевания, т.к. оно нарушает социальную адаптацию и подрывает уверенность в себе. На самом деле, как мы показали, тяжелого соматического заболевания нет, работает т.н. "порочный круг тревоги", физиологические сдвиги на фоне обычных стрессоров - мысль о неблагополучии - тревога - усиление физиологических проявлений - мысль о грозящей катастрофе - паника.
Физиологические сдвиги при определенных обстоятельствах могут произойти у каждого человека, не все люди склонны их интерпретировать катастрофическим образом. Как правило, это свойственно людям с изначально высоким уровнем тревоги. Высокая тревожность, в свою очередь, может быть связана с различными обстоятельствами и стрессами, имевшими место в разные периоды жизни человека.
Социальные факторы панического расстройства. Распространение панического расстройства в современной цивилизации можно связать с целым рядом особенностей нашей культуры. Это, прежде всего, высокий уровень стрессогенности жизни - ее высокий темп, частые перемены, интенсивные нагрузки, недостаточная социальная защищенность многих людей. Высокому уровню тревожности способствуют также некоторые ценности современной культуры; культ успеха и благополучия при высоком уровне конкуренции между людьми заставляет их скрывать свои трудности, жить на пределе сил, мешает вовремя обратиться за помощью.
СУБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПАНИКИ
- Человек фокусирует тревожное внимание на любых ощущениях (телесных) которые не кажутся ему нормальными.
- У него возникает идея, что эти ощущения – предвестники надвигающейся катастрофы.
- Он предвосхищает любые ситуации, в которых эти ощущения могут возникнуть.
- Он стремится избегать подобных ситуаций – запускается механизм избегающего поведения.
- Если таких ситуация избежать нельзя (не удается), он делает что-то, что позволит ему чувствовать себя в этой ситуации в большей безопасности – запускается механизм ритуализации и охранительного поведения.
- Если находясь в ситуации мнимой опасности человек «выживает» (что очевидно и вероятнее всего) – это подкрепляет его уверенность в том, что механизм избегании, ритуализации и охранительного поведения работают, и человек выжил только благодаря им.
- Внимание человека еще сильнее фиксируется на телесных ощущениях, которые рассматриваются как предвестники опасности и катастрофы.
- После этого замыкается цикл паники и агорафобии.
Нередко эти проблемы мучают людей годами, а иногда и десятилетиями. В особо сложных случаях клиентам приходится запираться в четырех стенах собственного дома. Иногда страх физических недугов превращается в «самосбывающееся пророчество»: у людей, страдающих паническим расстройством, часто развиваются различного рода функциональные недуги. Они также более склонны к депрессиям, к злоупотреблению алкоголем… Если пустить паническое расстройство на самотек, оно может разрушить жизнь человека.
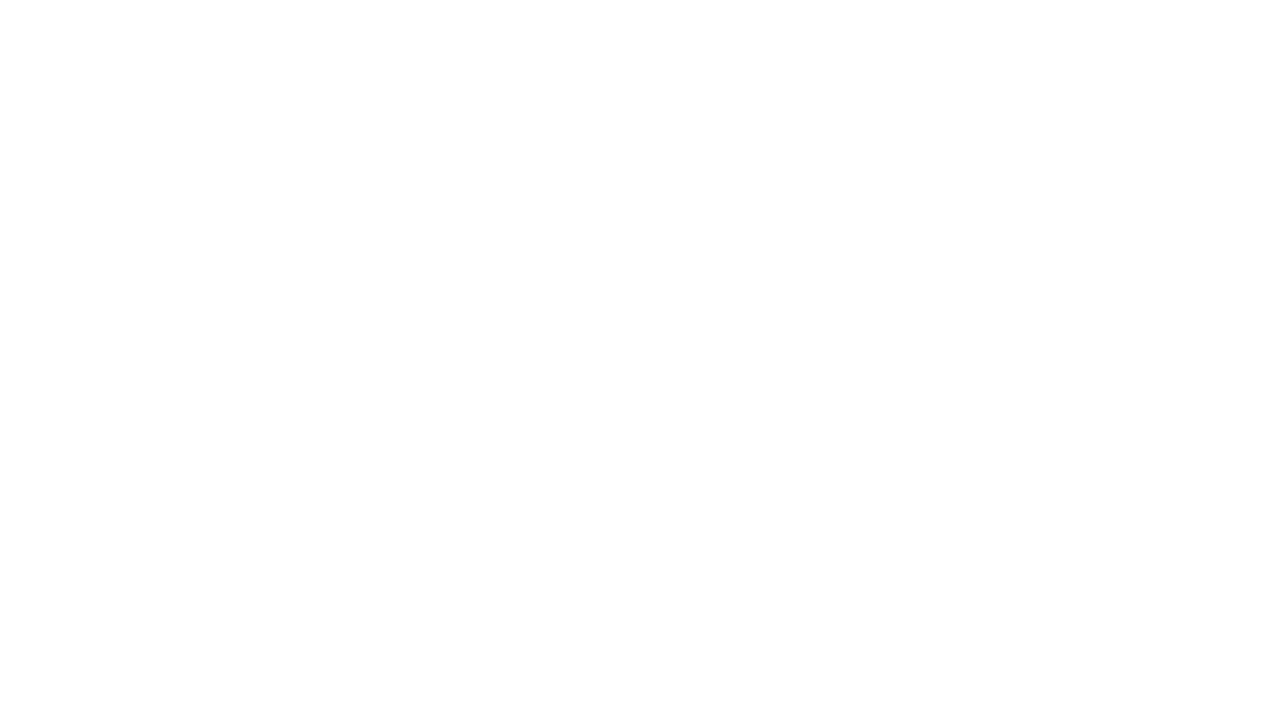
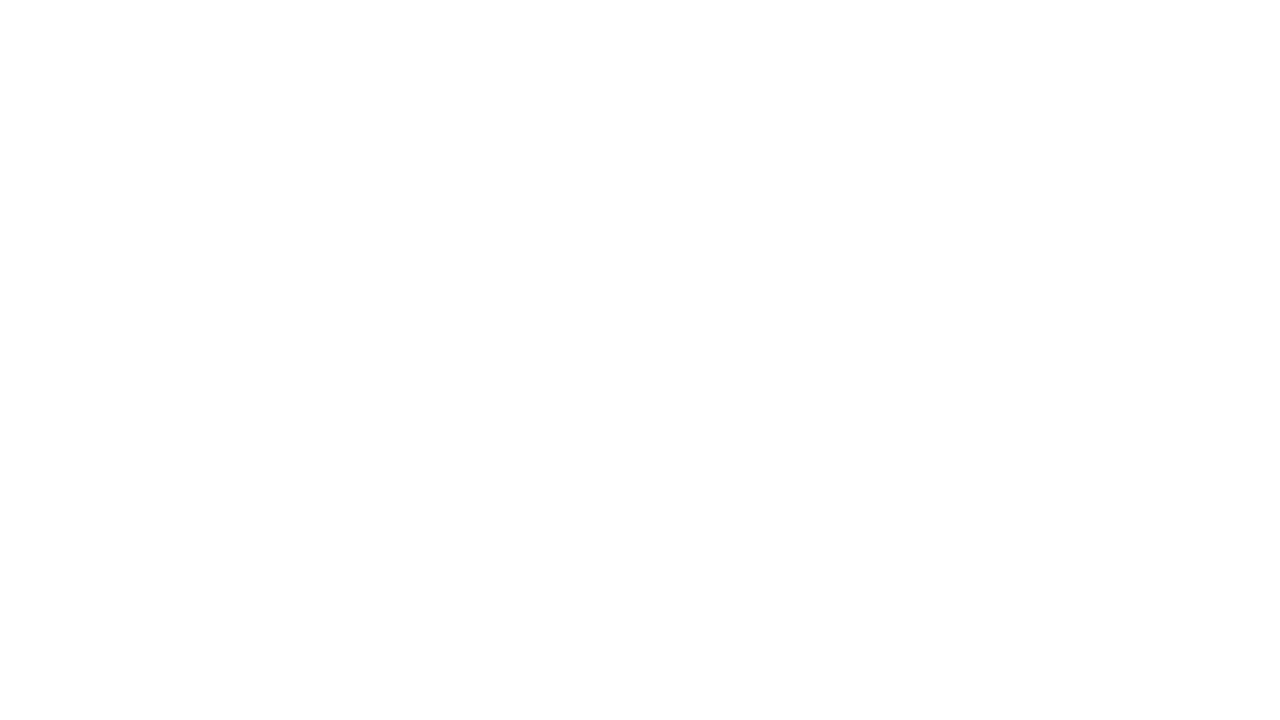
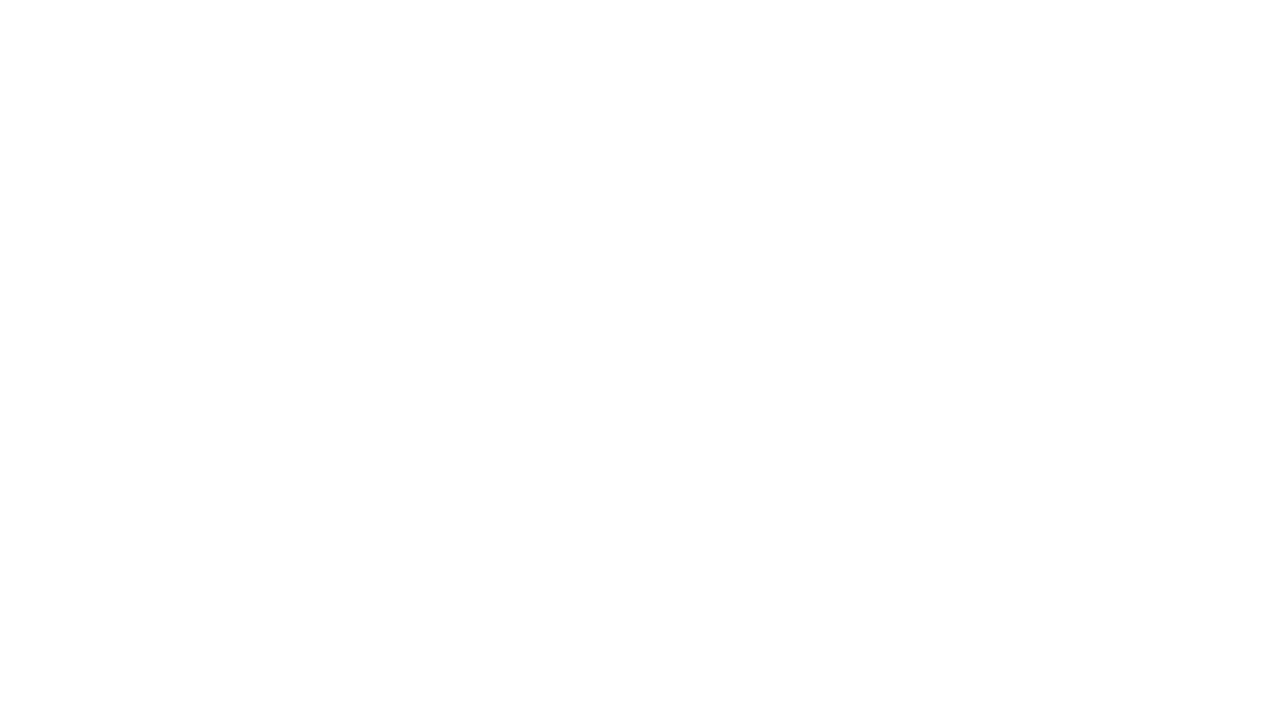
ОСОЗНАННОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА
Осознанность - это умение уделять значительную или большую часть вашего внимания текущему моменту, или даже все ваше внимание. Это саморегуляция внимания в соотношении с открытостью (себе, миру, другим) и принятием (себя, мира, других). Это направление фокуса внимания на внешний или внутренний мир и восприятие его таким, как он есть: без критики, оценки и осуждения.
Самые простые режимы осознанности:
- на внешнем мире,
- на внутреннем мире.
В процессе погружения в осознанность вы осваиваете роль любопытного наблюдателя, созерцающего свои внутренние процессы, но не отождествляющегося с ними. Вы не дает им себя поглотить себя и не пытаетесь их подавить или контролировать.
Осознанность реализуется через медитативные техники, которые могут быть направлены на достижение психотерапевтического, релаксационного или развивающего эффекта.
Быть в состоянии осознанности – это значит проживать свою жизнь такой, какой она представлена в восприятии - мгновение за мгновением. Это значит обращать внимание на то, что происходит с вами "здесь-и-теперь". Это значит в актуальном моменте.
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСОЗНАННОСТИ
- Принятие своего актуального опыта. Это означает присутствовать в опыте, каким бы он ни был; учиться быть в непосредственном контакте с реальностью, быть в связи со своей жизнью, исследовать многообразие форм ее проявлений, принимать опыт проживания различных аспектов опыта; ориентироваться на текущие впечатления, поддерживать заинтересованную позицию и открытость новому опыту.
- Способность к безоценочному самонаблюдению. Это означает не бороться со своими мыслями, чувствами, потребностями, а наблюдать как бы со стороны за ними, принимать их и осознавать, дистанцироваться от них, но не отрицая и не избегая их; при этом вы учитесь не углубляться в негативные мысли и оценочные суждения, и относитесь сострадательно к себе и другим. Ключевой принцип безоценочности - забота о себе.
- Саморегуляция внимания. Это означает, что вы направляете внимание на текущий различные аспекты актуального опыта, и делаете это таким образом, чтобы усилить распознавание, различение психических состояний и процессов, имеющих место в данный момент.
- Присутствие в текущем моменте. Это означает наблюдать, что происходит в теле и психике, не вынося при этом суждений и не начиная действовать по первому побуждению; вы направляете внимание на внешний (через органы чувств) и внутренний мир (через ощущения, чувства, переживания, мысли); вы видите, чувствуете, замечаете... - но ничего с этим не делаете.
- Выявление ментальных автоматизмов. Это означает осознавать автоматические мысли, чувства, импульсы к действиям, эмоциональные реакции, мыслительные шаблоны, и поддерживаете непосредственное осознавание каждого автоматизма, при этом не воспринимаете его как руководство к действию.
- Отсутствие сверхидентификации со своими мыслями. Это означает, что вы понимаете, что мысли – это всего лишь продукт сознания, не являющийся реальностью, кроме того мысли не являются вам. Вы учитесь отслеживать их в своем сознании, но не "включаете" привычный паттерн реагирования.
ПРИМЕНИМОСТЬ ОСОЗНАННОСТИ
Повышение уровня осознанности и развитие соответствующего навыка способствуют:
- снижению тревожности,
- ослаблению депрессивных состояний,
- повышению иммунитета,
- уменьшению хронических болей,
- повышению концентрации внимания,
- улучшению памяти,
- усилению субъективного ощущения благополучия и счастья,
- снижению негативных влияний стресса,
- повышению физической и психической выносливости.
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕССА ОСОЗНАННОСТИ
1. Выделите для себя время и место.
Лучше всего подобрать такие условия, когда вас никто не потревожит и вы сможете побыть в тишине и одиночестве. Достаточно примерно 10-20 минут в день. Хорошо, если это будет где-то на природе. Даже небольшая прогулка в парке улучшает настроение и помогает избавиться от «мысленной жвачки» (руминации) - постоянного обдумывания одних и тех же мыслей.
Желательно практиковать осознанность в одно и тоже время в одном и том же месте - так вы установите рефлекс и мозг сможет быстро переходить в нужное состояние. Это идеальные условия. Но вы можете заниматься осознанностью везде и всегда, в любых обстоятельствах вашей повседневной жизни.
2. Сознательно сосредоточьтесь на настоящем моменте.
Сделайте небольшое усилие и постарайтесь остановить ход мыслей. Сосредоточьтесь на том, что происходит с вами внутри вас и вокруг вас сейчас. Не обрабатывайте и не анализируйте информацию, а просто поглощайте ее. Сконцентрируйтесь на том, что воспринимают ваши органы чувств: слушайте звуки, чувствуйте запахи, наблюдайте за игрой света и тени. Это трудно, особенно поначалу, но со временем у вас будет получаться все лучше и лучше.
3. Позвольте себе ничего не делать и просто быть.
Главное здесь - позволить себе... Для этого нужно внутренне остановиться. Может показаться, что время уходит впустую. Мысли постоянно возвращаются к текущим делам и задачам. Но попробуйте позволить себе внутреннюю остановку.
4. Не думайте о прошлом, не планируйте будущее.
Прошлое уже не изменить, а будущее еще не наступило. То что происходит сейчас - это актуальный момент для осознания. Попробуйте на некоторое время забыть о самом ходе времени. Представьте, что вы выпали из хода времени. И для вас длится настоящий момент. Поставьте таймер на определенное время и возвращайтесь к обычной жизни только по его сигналу.
5. Обратите внимание на свои слова, действия, мотивы.
Осознанность не обязательно означает сосредоточенность только на внешних стимулах, не менее важно научиться наблюдать за собой, за своим внутренним миром. Обратите внимание на то, как и почему вы это делаете те или иные действия, какие в этот момент рождаются в вашей душе чувства и мысли, какие возникают ощущения в теле, какие потребности актуализируются.
6. Возвращайте свое внимание назад, если оно отвлекается.
Вы столкнётесь с тем, что ваше внимание будет все время стремиться отвлечься на что-то иное. это могут быть посторонние звуки, ощущения в теле, мысли, воспоминания... Старайтесь не фиксироваться на этих посторонних впечатлениях и не осуждайте себя за эти отвлечения - мягко возвращайтесь к естественному процессу наблюдения за собой и к осознанию себя.
МОДАЛЬНОСТИ ОСОЗНАННОСТИ
Осознанное дыхание. Эта практика сродни медитации, и она тренирует безоценочное и доброжелательное внимание. Ключевой момент – подготовка к практике. Сядьте так, чтобы вам было комфортно. При этом положение вашего тела должно выражать достоинство и пробужденность – спина прямая, плечи расправлены, но не напряжены. Выключите мобильные телефоны и убедитесь, что никто не сможет вам помешать. Поставьте таймер – для начала на несколько минут. Постарайтесь перенести весь фокус внимания на дыхание. Сосредотачивайтесь на вдохе и выдохе. Чтобы было легче, можно положить руку на живот или грудную клетку – ощущение дыхания будет сильнее. В ходе практики вы наверняка не раз познакомитесь со своим "автопилотом", который захочет поработать в привычном режиме. В мыслях вы можете начать прыгать в воспоминания, в тревогу, в критику. Определите куда мысли вас уводят – в прошлое, в будущее, в критику и оценку, в сомнения ? После этого безоценочно и доброжелательно перенесите фокус обратно на дыхание. Обратите внимание на выход из практики – когда сработает звук таймера, сфокусируйтесь на нем. И обязательно прислушайтесь к своим ощущениям во время и после выхода из практики – к вам в голову может прийти идея или вы можете остро ощутить какое-либо желание. Например, сходить на прогулку в парк. Почувствуйте, что важно для вас сделать именно в этот момент.
Ментальное сканирование тела. В медитации с осознанием тела внимание направлено на различные области тела. Старайтесь отмечать ощущения в теле, которые происходят в настоящий момент.
Осознанное слушание. Как часто мы полностью присутствуем в том, что говорит наш собеседник? Даже во время важного разговора наши автоматические мысли дают о себе знать – слушая, мы параллельно оцениваем, критикуем, думаем о своем, планируем.
Попробуйте во время беседы максимально сфокусировать внимание на словах говорящего. Вы увидите, как тренировка навыка осознанного слушания изменит качество коммуникации, обратите внимание на многие нюансы, которых не замечали ранее и начнете лучше слышать между слов. Попробуйте научиться на 100% присутствовать в рассказе своего собеседника.
Когда вы слушаете собеседника, обращайте внимание на звук и ритм голоса, на выражение лица. Замечайте, как ваш ум уходит в свои мысли, пока собеседник говорит. Обратите внимание на свое желание говорить. Отмечайте про себя, что вам легче: слушать или говорить.
Осознание во время еды. Осознавайте как и что вы едите, качества пищи, запах, вкус, процесс насыщения, ваши пищевые привычки. Вы можете заметить, что, когда ум отвлечен от процесса приема пищи, вы не чувствууете насыщения. Сделайте еду процесс приема пищи вашей ежедневной практикой осознанности.
Осознанность в магазинах. Современные торговые центры — это поле боя различных брендов за ваше внимание. Маркетологи изо всех сил стараются придумать самые эффективные способы управлять вашим вниманием. Наблюдайте, как у них это получается, когда что-то привлекает внимание, старайтесь осознать, как это сработало, как ваш ум попадается в эту ловушку.
Осознанность в социальных сетях. Перед тем как зайти в Фейсбук или Инстаграм, решите, сколько времени вы планируете там провести. Когда время выйдет, обратите внимание на желание продолжить листать ленту. Осознавайте внимание на свои чувства, когда вы переживаете чужие жизни в социальных сетях.
Осознанность за рулем. Обратите внимание на свои руки на руле. Осознавайте свою позу, если найдете неосознанное напряжение в теле, осознайте его и расслабьте. Пусть ваши плечи будут расслаблены. По возможности выключите радио и побудьте в тишине.
Осознанность во время конфликтов. В трудном разговоре обратите внимание на ощущения в теле, вызываемые гневом или страхом. Как вы ощущаете температуру тела, как быстро бьется сердце? Обратите внимание на свое желание защищаться или реагировать каким-то образом.
Осознанность во время физической тренировки. Настройтесь на ощущения в теле во время тренировки. Обратите внимание, какие мысли возникают, когда вы преодолеваете свою лень. Потратьте немного энергии, чтобы поблагодарить свое тело за возможности, которыми оно располагает.
Осознанность в душе. Хороший способ укрепить привычку осознанности – связать ее с каким-то уже привычным действием, которое вы совершаете каждый день. Когда вы принимаете душ, обратите внимание на температуру воды и на ощущения в теле. Следите за вниманием, и когда оно отвлекается, возвращайте его на телесные ощущения.
Осознанность перед сном. Большинство людей засыпают с телефоном или ноутбуком. Попробуйте отложить все устройства и осознать, как происходит процесс засыпания.
Осознанность во время ходьбы. Мы часто совмещаем ходьбу с другими действиями – слушаем музыку, говорим по телефону, переписываемся. Попробуйте сделать ходьбу осознанной практикой. Почувствуйте, как ноги соприкасаются с землей. Попробуйте ходить медленнее, чем обычно. Осознавайте окружающее пространство, запахи, цвета, звуки. Используйте это время, когда вы куда-то идете, чтобы привнести практику осознанности в свою жизнь.
MINDFULLNESS / ОСОЗНАННОСТЬ
Одна из ключевых методологий работы с дисфункциональными состояниями тела и сознания, относящаяся к техникам третьей волны КПТ носит название "Mindfullness".
Понятие «Mindfulness» берет свои истоки в философской традиции буддизма.
Данная практика впитала в себя как восточные корни, так и западную систематизацию. В настоящее время она отошла от религиозной доктрины буддизма, однако сохранила в себе принципы буддистского понимания работы сознания и буддистский взгляд на процесс формирования осознанного ума.
В настоящее время практика «Mindfulness» вошла в контекст западной психотерапии, практической психологии, нейропсихологии.
Одним из первых, в 70-х годах XX века, термин «Mindfulness» в научный и практический обиход ввел американский профессор медицины Джон Кабат-Зинн (Jon Kabat Zinn) (Университет шт. Массачусетс).
Он разработал концепцию «Mindfulness», адаптировав буддистские практики к задачам и целям психологической помощи.
Широкое распространение концепция получила после ее внедрения в методологию и практику когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), выделившись в одно из центральных направлений ее «третьей волны».
Существует несколько программ, полностью основанных на практике осознанности: Mindfulness-based stress reduction (MBSR), применяющаяся преимущественно в лечении расстройств, причиной которых является стресс, и Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), ориентированная в основном на клиентов, страдающих от периодических приступов депрессии и тревоги.
Последняя, получившая в отечественной психотерапевтической практике название когнитивная терапия на основе осознанности, стала последним крупным пополнением в арсенале способов лечения широкого спектра психических расстройств.
ТРАДИЦИОННОЕ ПОНИМАНИЕ ОСОЗНАННОСТИ В БУДДИСТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Для описания феномена осознанности в буддизме используется несколько понятий.
- Смрити (на пали – сати) обычно переводится как осознанность или «mindfulness», но его первостепенное значение – это воспоминание или даже память. Как и в случае со словом «памятование», смрити обычно используется для обозначения состояния, когда мы присутствуем в нашем действительном переживании, в противоположность отвлечению или рассеянности.
- Сампраджня (сампаджанна на пали) буквально означает «ясное знание». Это слово используется для обозначения того, что ты ясно знаешь свои цели и отношение между тем, что ты делаешь и твоей целью. Это осознавание своей цели.
- Апрамада (аппамада на пали) означает осознанность в активном, этическом смысле – иногда это переводится как бдительность. Она означает, что мы внимательно ограждаем себя от неискусных действий тела, речи и ума. Противоположность этому – прамада, что означает, помимо прочего, опьянение, беспечность и небрежность.
Без смрити мы не будем присутствовать в нашем опыте, мы не будем достаточно осознанны, чтобы наслаждаться тем, что мы делаем, или миром вокруг нас, и в нашем отвлечении у нас не будет никакой надежды на обретение сампраджни или апрамады.
Без сампраджни мы будем постоянно забывать, для чего нам дана жизнь, бесцельно плывя по течению и отдаваясь на милость внешних событий, так и не достигнув наших целей или не приведя наши решения к результату.
Без апрамады мы не сможем соблюдать ни один из наших внутренних принципов, поэтому осознанность можно назвать основой для всей нашей практики внутреннего развития и исцеления.
Без осознанности мы живем на автопилоте. У нас в действительности нет никакого выбора, никакой свободы – не мы проживаем жизнь, а жизнь проживает нас. По мере большего и большего развития осознанности мы развиваем способность выбирать наши реакции на обстоятельства, других людей и деятельность нашего собственного ума.
ФОРМЫ ОСОЗНАННОСТИ
Выделяются четыре основы осознанности:
- Осознанность по отношению к телу.
- Осознанность по отношению к ощущениям/чувствам.
- Осознанность по отношению к уму.
- Осознанность по отношению к реальности (миру).
(Сатипаттхана-сутра)
Edward Lingwood расширил эту традиционную формулировку форм осознанности, и обозначил их как "четыре измерения осознанности":
1. Осознанность по отношению к вещам, или физическому окружению
2. Осознанность по отношению к себе, включая -
а) осознанность по отношению к телу,
б) осознанность по отношению к ощущениям/чувствам,
c) осознанность по отношению к мыслям.
3. Осознанность по отношению к другим людям.
4. Осознанность по отношению к реальности/миру.
1. Осознанность по отношению к физическому окружению.
Многие люди замечают, что, когда они начинают медитировать, они становятся более осознанными к миру вокруг них и что это в огромной мере обогащает их удовлетворенность от жизни. Трава, деревья, постоянно меняющееся небо, даже городской пейзаж, сотканный из зданий, инженерных сооружений и искусственного света – все начинает наполняться новой ясностью, яркостью и красотой.
2. Осознанность по отношению к себе.
А. Осознанность по отношению к телу.
Будда: «Вот монах… сидит со скрещенными ногами, держит тело прямо, установив присутствие осознанности перед собой. Осознанно он вдыхает, осознанно он выдыхает. Он упражняет себя в мысли: «Я буду вдыхать, осознавая все тело. Он упражняет себя в мысли: «Я буду выдыхать, осознавая все тело.
Идя, он знает, что он идет, стоя, он знает, что он стоит, ложась, он знает, что ложится. Какое бы положение ни принимало его тело, он знает, что оно таково, каково оно есть.
Ходя взад и вперед, он ясно осознает, что он делает; смотря вперед или назад, он ясно осознает, что он делает; нагибаясь и выпрямляясь, он ясно осознает, что делает; неся свое одеяние и чашу, он ясно осознает, что делает; принимая пищу или напитки, жуя и смакуя пищу, он ясно осознает, что делает; выделяя экскременты или мочу, он ясно осознает, что делает; ходя, стоя, сидя, засыпая и пробуждаясь, говоря или оставаясь в молчании, он ясно осознает, что делает».
Тело наполняется осознанностью, процессы ума успокаиваются, внимание уводится от беспокойной болтовни рационального ума и вместо этого утверждается в осознанности нашего физического существования, что позволяет нам ощущать глубину и покой даже в самых простых действиях.
Осознанность по отношению к телу и осознанность по отношению к окружающему миру взаимосвязаны, поскольку и то, и другое успокаивает наш внутренний диалог.
Б. Осознанность по отношению к ощущениям.
Слово «ощущение», как оно используется в буддистской практике, не означает только лишь телесное ощущение, эмоцию или чувство, оно относится к тому, что на пали называется «веданой». Ведана означает мгновенную реакцию приязни или неприязни, которая у нас проявляется, когда воздействие оказывается на наши органы чувст. Согласно тому, дает ли это нам приятную или неприятную ведану, мы пытаемся ухватиться за различные части нашего опыта или отвергнуть их. Наши веданы проистекают из нашей прошлой обусловленности, и часто они не связаны ни с каким объективно хорошим или плохим качеством, внутренне присущим самой вещи или переживанию.
Веданы напоминают своего рода "глубинные убеждения", запускающие стереотипные реакции и автоматические мысли.
Edward Lingwood также использует слово «ощущение» в более широком смысле, включающем эмоции и чувства. Осознанность по отношению к эмоциям и чувствам – важная часть в том, чтобы стать сознательным, самостоятельным человеческим существом, живущим, используя весь потенциал сердца, равно как и головы. Если мы не осознаем свои эмоции и чувства, они имеют склонность управлять нами, и у нас по существу не остается никакого сознательного выбора.
В. Осознанность по отношению к мыслям.
Часто наша голова забита мысленной болтовней. Мы постоянно строим планы на будущее, сожалеем о прошлом, беспокоимся о том, что думают другие, воображаем, что вот-вот случится, создаем фантазии, делаем предположения о других людях и их мотивах и т.д. Этот постоянный поток мыслей оставляет нам мало времени на покой ума или наслаждение миром вокруг нас. И что хуже всего, мы часто принимаем наш умственный диалог совершенно всерьез, отождествляемся с ним, и то, что началось как мелькнувшая мысль, становится целостной фантазией, которую мы принимаем за реальность и которую затем проигрываем в мире.
Но на самом деле большинство наших мыслей представляют собой автоматическую продукцию ума: они приходят и уходят в зависимости от условий в прошлом. Нам не обязательно относиться к ним серьезно, отождествляться с ними или вкладывать в них энергию. Если вместо этого мы можем поддерживать ясную осознанность по отношению к нашему внутреннему состоянию, мы сделали первый шаг в освобождении от этих навязчивых мыслей.
Как и в случае с эмоциями и чувствами, осознанность по отношению к мыслям обладает преображающим воздействием. По мере того, как мы учимся наблюдать свои мысли от момента к моменту, сначала в медитации, а затем и в повседневной жизни, мы замечаем, что поток умственной продукции часто замедляется или вообще прекращается. Это может быть глубоко обновляющим переживанием, которое идет рука об руку с глубоким ощущением покоя. Мы также становимся более способными оценивать наше мышление, отсеивая истинное и объективное от того, что просто неверно, затуманено негативными эмоциями и чувствами.
3. Осознанность по отношению к другим людям.
Обычно большинство из нас не слишком осознанно относится к другим людям в их полноте, как к существам, которые чувствуют и переживают столь же глубоко, как и мы, обладают целым миром внутри себя, как и мы, и которые в любом отношении столь же важны, как и мы.
Кроме тех немногих, с которыми мы близки, мы часто рассматриваем людей почти как объекты, которые либо существуют для нашего удобства – чтобы вести наш автобус или готовить наш обед, либо не представляют для нас никакого интереса. Один из способов изменить этот недостаток осознанности – просто уделять внимание людям, что подразумевает, что мы видим их: их лица, их глаза, язык их тела. Когда мы действительно уделяем внимание людям, мы начинаем видеть их теми, кем они являются, полноправными человеческими существами.
4. Осознанность по отношению к реальности/миру.
Мир таков, какой он есть. Он изменчив, непостоянен, он пребывает в постоянном движении. Мы можем наблюдать за ним, стремясь понять природу реальности как таковой. Через понимание природы внешней реальности мы способны прийти к пониманию своей внутренней реальности. В итоге нам может открыться удивительный факт того, что внутренняя реальность и внешняя - идентичны, что они последовательно переходят одна в другую, и что в основе как внешней, так и внутренней реальности лежит качество глубинного покоя и воспроизводящей себя пустоты.
ОСОЗНАННОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Осознанность трудно поддерживать, и, поскольку она столь важна для внутренней жизни, нам необходимо делать все возможное, чтобы развивать и поддерживать ее. Она может включать медитацию, упражнения в осознанности тела, предоставление себе времени для осознанности в простых удовольствиях, избегание слишком большой спешки и загруженности информацией и стремление быть осознанными по отношению к миру вокруг нас, в себе и в других живых существах.
ОСОЗНАННОСТЬ ЭТО -
- психологическая внимательность;
- способность сосредотачиваться на телесных ощущениях, на мыслях, на эмоциональных переживаниях;
- навык переключения внимания с одних аспектов сознания на другие;
- сознательный контроль внутренних изменений;
- способность безоценочно, предметно и буквально осознавать свой жизненный опыт – полноту и разнообразие содержаний переживаемых событий и явлений;
- одновременно осознание того факта, что переживаемые ощущения есть внутренняя репрезентация опыта, субъективны.
#046
СКАНИРОВАНИЕ «ТЕЛА-СОЗНАНИЯ»
- Где я сейчас нахожусь?
- Что сейчас происходит с моим телом? Какое положение в пространстве оно занимает? Могу ли я его осознавать полностью? Могу ли я его осознавать изнутри и с наружи?
- Чего сейчас хочет мое тело? Какие оно испытывает потребности?
- Что я сейчас чувствую? Какие эмоции и состояния я переживаю? Мысленно оцените интенсивность своих переживаний по десятибальной шкале.
- О чем я сейчас думаю? О чем мои мысли сейчас?
- Что я сейчас делаю? Или что я хочу сделать? Действительно ли это важно в данный момент? Если сейчас этого не сделать, произойдет ли что-то критическое?
- Мысленно скажите себе: «Я присутствую осознанно на всех уровнях своей внутренней реальности «здесь-и-сейчас» – на телесном, на эмоциональном и на ментальном уровне. «Здесь-и-сейчас» я присутствую осознанно, во всей полноте своего внутреннего опыта».
#047
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БЫТЬ
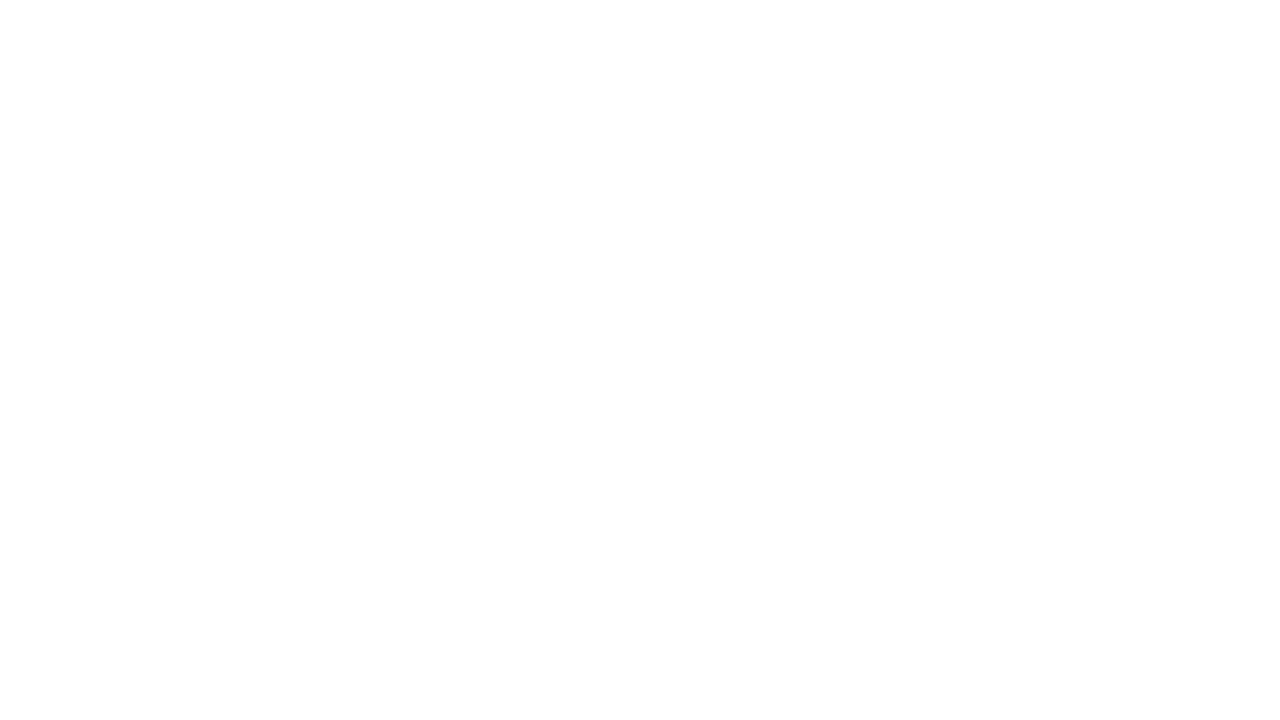
#048
САМОСОТРАДАНИЕ
- Примите удобное положение, то, которое ассоциируется у вас с чувством безопасности и покоя.
- Прислушайтесь к себе, к своим чувствам и к своим мыслям.
- Отстранитесь от критики и самоосуждения. Внутренне согласитесь с тем, что бы не критиковать себя, не оценивать, не осуждать, не зависимо от того, что вы чувствуете или о чем вы думаете, или думали раньше.
- Опишите, за что вы готовы проявить сочувствие к себе, в каких своих проявлениях и качествах, что именно требует от вас самопринятия и самосострадания. Опишите очевидные и известные вам факты своей внутренней и внешней жизни, с которыми вы готовы примириться и допустить их.
- Подумайте о то, что для вас значит:
- самосострадание,
- самопринятие,
- прощение себя.
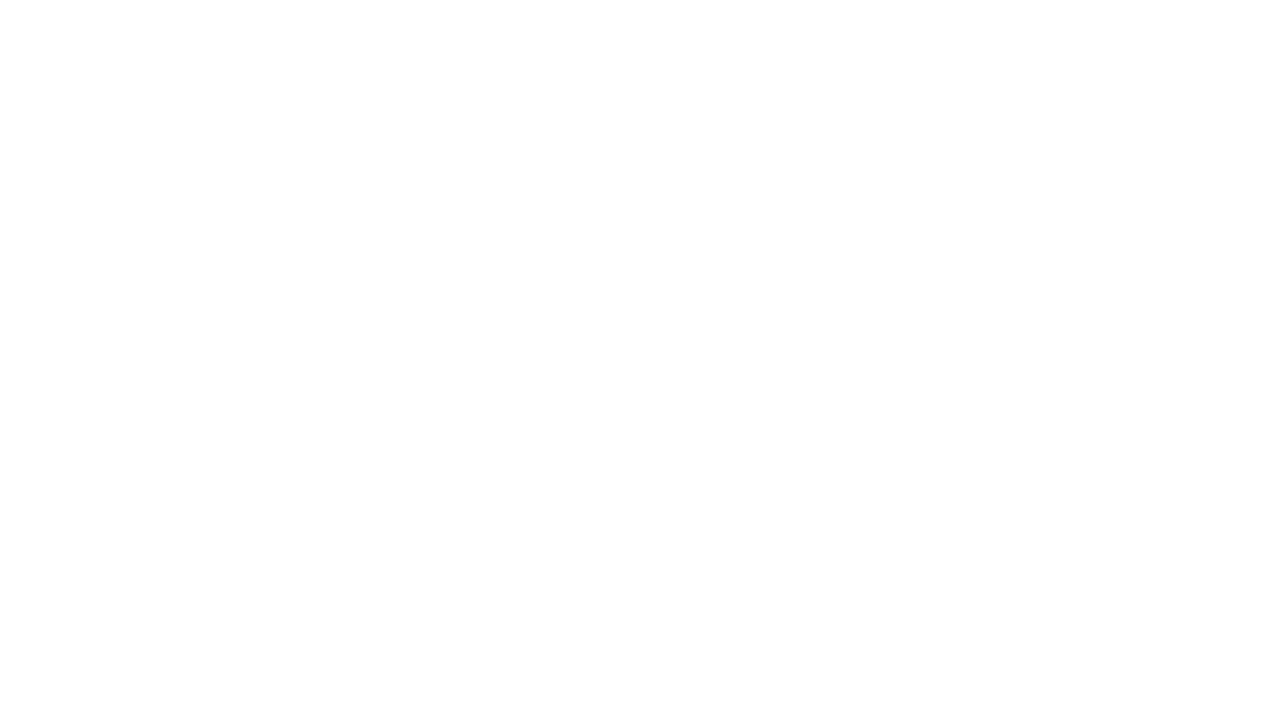
#049
МЕНТАЛИЗАЦИЯ ПАНИЧЕСКОЙ АТАКИ
- Займите удобное положение тела.
- Начните спокойно и осознанно дышать.
- Постарайтесь успокоить и расслабить ваше тело.
- Контролируйте ваши чувства и мысли.
- В этом состоянии вспомните последний приступ интенсивного тревожного напряжения, возможно он достигал уровня панической атаки.
- Как он протекал у вас? Что вы при этом чувствовали? О чем думали? Что происходило с вашим телом? Что вам удавалось контролировать, и что не удавалось?
- Мысленно представьте себе ваши переживания и опишите их в таблице в зависимости от фазы тревожной активации сознания и тела.
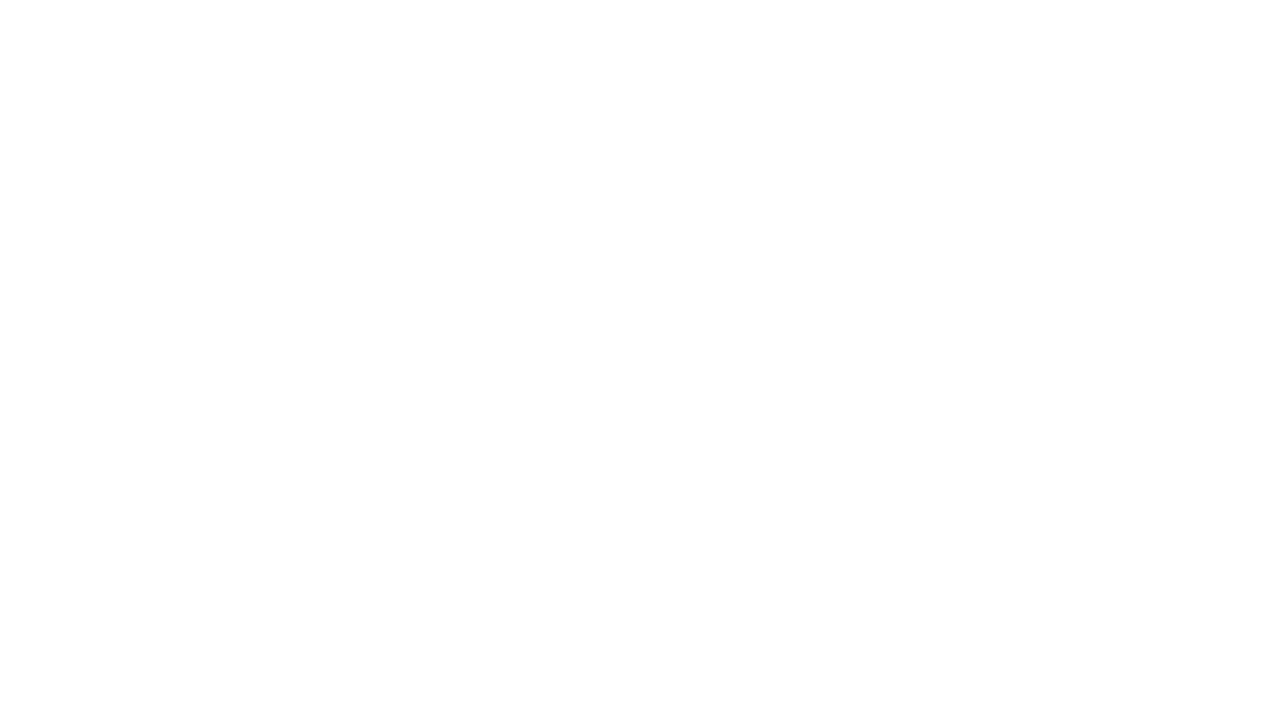
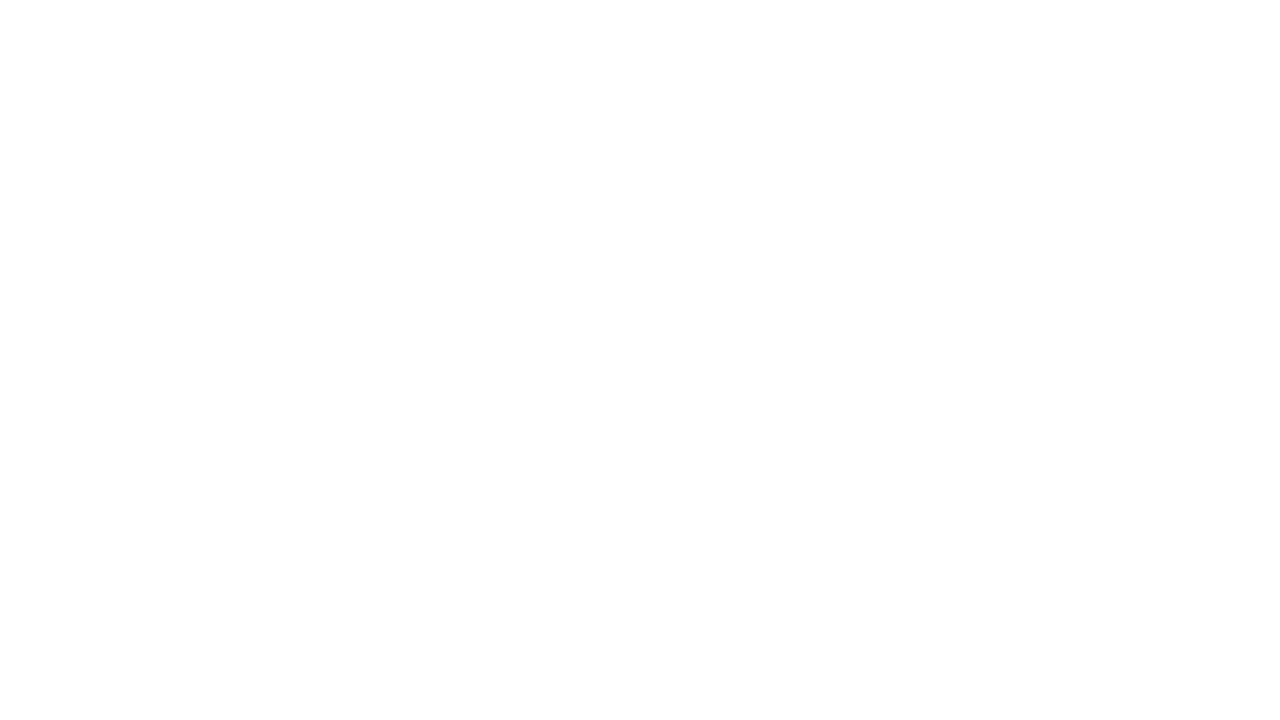
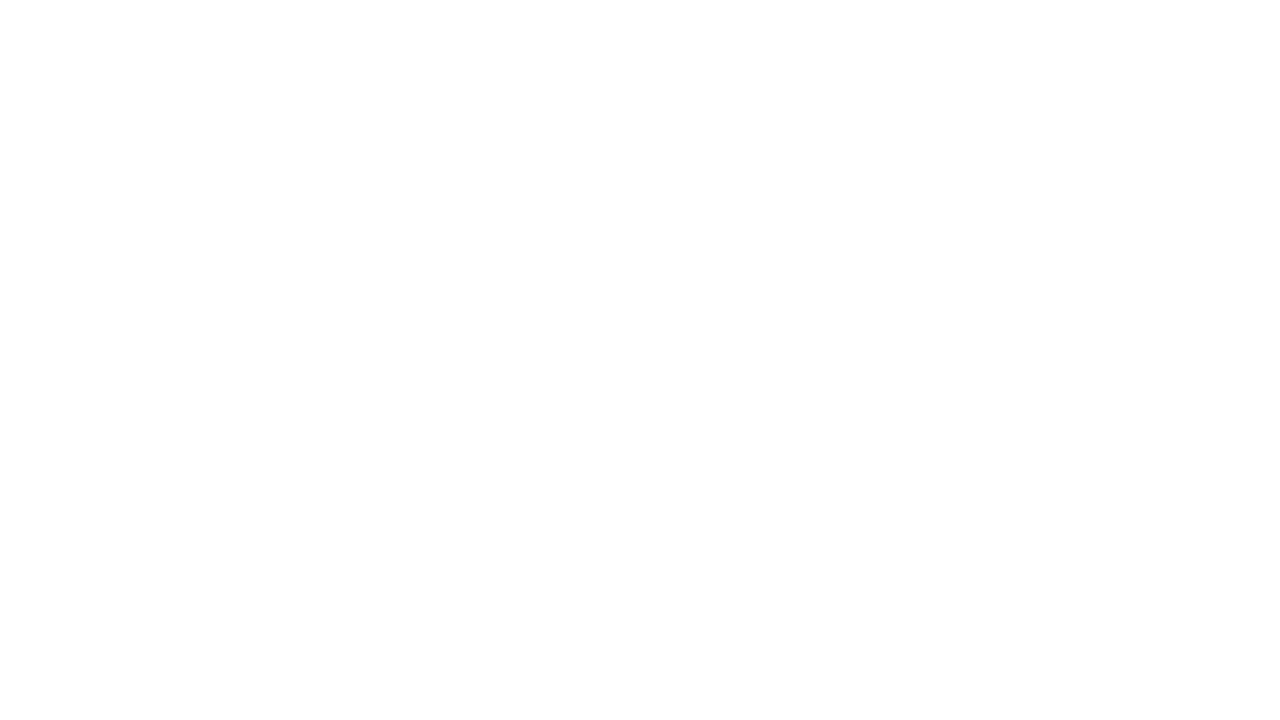
#050
СИМВОЛИЗАЦИЯ ПАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
- Возьмите большой лист бумаги (А3).
- В левой части листа опишите слева ваше паническое состояние – чрезмерное и неконтролируемое нарастание панической тревоги, панический приступ, интенсивный страх смерти – так, как вы его ощущаете и переживаете, как вы вспоминаете о нем. Описывайте своими словами, используя сравнения и метафоры, ваши реальные переживания, то, как вы ощущаете, что с вами происходит в момент паники.
- В центральной части листа изобразите образ вашей панической тревоги. Как она могла бы выглядеть? В каких красках и образах вы могли бы представить свою панику.
- Справа от рисунка выделите и опишите ключевые метафоры, которые характеризуют приступ панической атаки.
- Рядом с метафорами опишите, что вам не удается контролировать в этом состоянии, например, некоторые ваши мысли, чувства, телесные реакции, действия.
- После этого, под рисунком панического образа, изобразите образ вашего комфортного, спокойного и расслабленного состояния. С чем у вас может ассоциироваться такое состояние, с какими образами, цветовыми оттенками и графическими формами? Образ может быть абстрактным или сюжетным.
- Подберите подходящие метафоры, которые отражали бы ваше спокойное и благополучное состояние. Запишите их рядом с рисунком.
- Рядом с метафорами опишите, что вам не удается контролировать в состоянии покой и расслабленности – некоторые ваши мысли (какие?), чувства (какие?), телесные реакции и действия (какие?).
- Сравните эти два описания – в случае панического состояния и в случае покоя – чем они отличаются? Запишите ключевые отличия этих состояний. Постарайтесь осознать итоги этой техники.
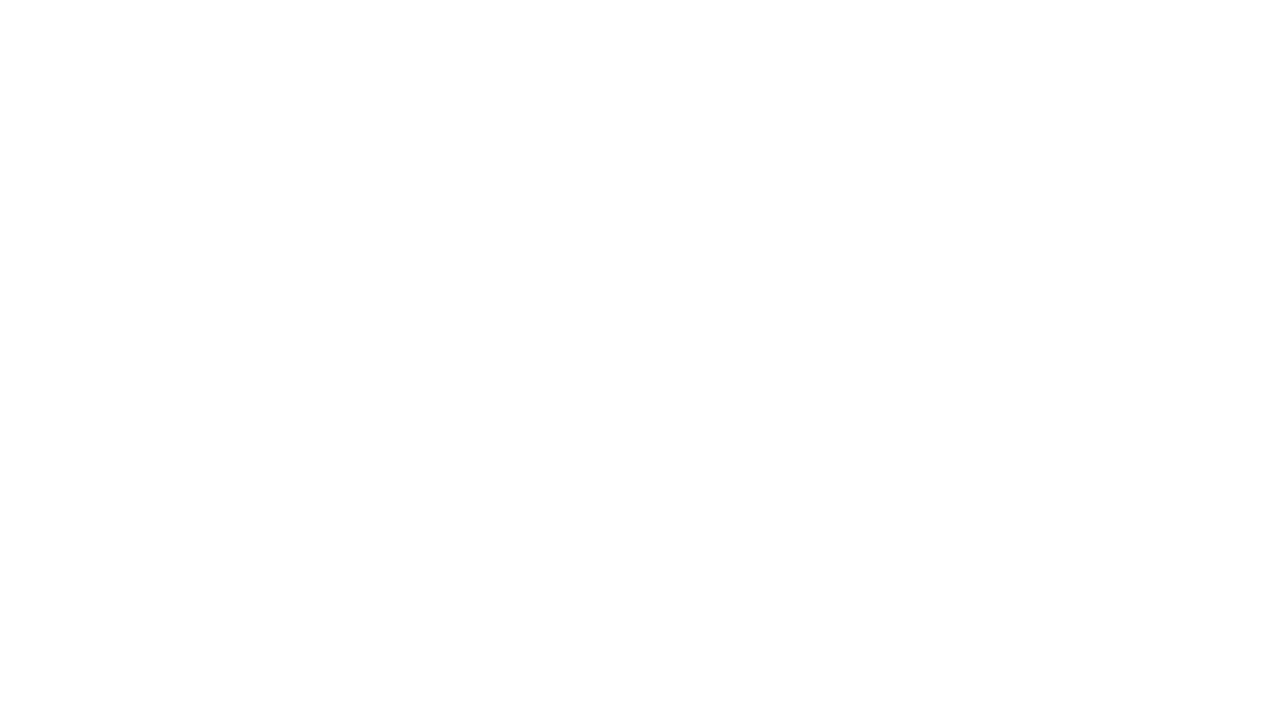
#051
ПРИНИМАЮЩАЯ СПОНТАННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ
- Сделайте детальное описание состояния покоя, комфорта, расслабленности. Что для вас значит само это состояние? И что означает для вас пребывать в этом состоянии?
- На основе этого описания сделайте аудиозапись успокаивающей релаксации – запишите своим голосом текст релаксации. Сделайте несколько вариантов записи и выберите наиболее подходящую. Используйте во время записи многократные повторы успокаивающих фраз и релаксирующих установок (аффирмаций).
- Прослушивайте запись в течение дня столько раз, сколько вам захочется. Наблюдайте за своими чувствами и реакциями во время прослушивания.
- Экспериментируйте с состоянием покоя и расслабления в течение нескольких дней. Наблюдайте за своими чувствами и телесными реакциями. Старайтесь спонтанно переходить в состояние покоя в любых обстоятельствах в течение дня.
- Обращайте внимание какие возникают для вас ментальные угрозы, если вы позволите себе успокоится и расслабиться. Насколько эти угрозы реалистичны? Понаблюдайте за реальностью этих угроз в течение нескольких дней.
ТОМАС НАГЕЛЬ
Откуда мы вообще что-либо знаем?
Если вы задумаетесь над этим вопросом, то выяснится: содержание вашего сознания — это единственное, в чем вы можете быть уверены.
В чем бы вы ни были убеждены - в существовании солнца, луны, звёзд; дома и местности, в которых вы живёте; истории, науки, других людей, наконец, собственного тела, - все это основано на ваших переживаниях и мыслях, ощущениях и чувственных восприятиях. Это все, с чем вы имеете дело непосредственно, смотрите ли в книгу, которую держите в руках, ощущаете ли пол под ногами или что вода - это Н20. Все прочее - дальше от вас, чем внутренние переживания и мысли, и дано вам только через них.
Обычно вы не сомневаетесь в существовании пола под ногами, дерева за окном или собственных зубов. По сути, большую часть времени вы вообще не задумываетесь о состояниях сознания, которые убеждают вас в существований этих вещей: вам кажется, что вещи даны вам непосредственно. Но откуда вы знаете, что они существуют на самом деле?
Если вы станете настаивать, что внешний физический мир должен существовать, поскольку нельзя было бы видеть зданий, людей вокруг, звёзд на небе, если бы не было вещей вовне, отражающих и посылающих свет на сетчатку ваших глаз, обусловливая тем самым ваши зрительные восприятия, то ответ, очевидно, будет таким: откуда вам все это известно? Ваше утверждение - всего лишь ещё одно заявление о существовании внешнего мира и вашем отношении к нему, основанное на свидетельстве ваших чувств. Но вы можете опереться на это специфическое свидетельство о причинах зрительных восприятий, только если вообще уже можете опереться на содержание своего сознания, свидетельствующего перед вами о существовании внешнего мира. А это как раз именно то, что требуется доказать. Если вы станете доказывать надёжность одних ваших восприятий, апеллируя к другим вашим же восприятиям, вы попадёте в замкнутый логический круг.
Выглядел бы мир для вас как-то по-другому, если бы на самом деле он существовал только в вашем сознании, если бы все, что вы принимаете за внешнюю реальность, было бы только бесконечным сном или галлюцинацией, от которых вы никогда не сможете очнуться? Если бы дело обстояло именно так, то, разумеется, вы и не смогли бы проснуться, как просыпаетесь ото сна, поскольку это означало бы, что нет никакого «реального» мира, в котором можно проснуться. Так что, подобная ситуация, строго говоря, отличалась бы от нормального сна и естественной галлюцинации. Обычно мы представляем себе сон как то, что происходит в сознании человека, который на самом деле лежит в реальной постели в реальном доме, даже если во сне он сломя голову удирает от "газонокосилки-убийцы". Мы также исходим из того, что нормальный сон зависит от процессов, протекающих в мозгу спящего.
Но разве не может оказаться, что все ваши восприятия - это один бесконечный сон, вне которого нет никакого реального мира? Откуда вы знаете, что это не так? Если весь ваш опыт - это сон, вне которого ничего нет, то любые доводы, с помощью которых вы пытаетесь доказать самим себе, что внешний мир существует, окажутся всего лишь частью этого сна. Если вы стукнете кулаком по столу или ущипнёте себя, то услышите звук удара или ощутите боль от щипка, но все это будет лишь ещё одним явлением в вашем сознании, - как и всё остальное. В этом нет никакого смысла: если вы хотите выяснить, выводит ли то, что внутри вашего сознания к чему-то, что вне его, то вам нельзя отталкиваться от того, как вещи представляются изнутри вашего сознания.
Но от чего же ещё можно оттолкнуться? Все, что вы знаете о чем бы то ни было, дано вам не иначе, как посредством вашего сознания - будь то в формах восприятия, или сведений, почерпнутых из книг или от других людей, или свидетельств памяти; и это полностью согласуется с тезисом, что вообще все из сознаваемого вами существует исключительно внутри вашего сознания.
Возможно даже, что у вас нет тела или головного мозга - ведь все ваши представления о них возникли только благодаря свидетельствам ваших чувств. Вы никогда не видели своего мозга, вы просто убеждены, что он имеется у всех и каждого; но даже если бы вы и увидели его (или думали, что увидели), это было бы лишь ещё одним зрительным восприятием. Может статься, что вы, как субъект восприятия, суть единственная вещь на свете, которая существует, и никакого физического мира нет вообще - ни звёзд, ни земного шара, ни других людей. Может, даже и пространства никакого нет.
Наиболее радикальный вывод, который можно извлечь из сказанного, таков: ваше сознание - это единственное, что существует. Такой взгляд называется солипсизмом. Он стоит особняком, и у него совсем немного сторонников. Как вы можете догадаться по этому замечанию, сам я к их числу не принадлежу. Если бы я был солипсистом, то, наверное, не стал писать этот текст - ведь я бы не верил, что существуют читатели. С другой стороны, будь я солипсистом, я бы, возможно, все же взялся за его написание, чтобы сделать свою внутреннюю жизнь более разнообразной и интересной: она обогатилась бы впечатлениями от того, как текст будет звучать, как его будут читать и как о нем будут отзываться и т.д. Я мог бы даже вообразить своё впечатление от получения — если повезёт — ещё и авторского гонорара.
Возможно, солипсистом являетесь вы: в таком случае вы будете рассматривать этот текст как плод вашего собственного сознания, вступающий в существование в лоне вашего опыта по мере того, как вы его читаете. Разумеется, ничего из того, что я могу сказать о себе, не докажет вам, что я на самом деле существую или же что существует в качестве физического объекта этот текст изданный в виде книги.
С другой стороны, вывод, что на свете нет ничего и никого, кроме вас, - это вывод более сильный, чем то позволяют сделать наличные свидетельства сознания. Опираясь на содержание своего сознания, вы не можете знать, что внешнего мира не существует. Наверное, правильнее было бы сделать более скромный вывод: вы не знаете ничего, что выходило бы за пределы ваших впечатлений и переживаний. Внешний мир, может быть, существует, а может быть - и нет; а если и существует, то он, может быть, совершенно не таков, а может быть, и именно таков, каким он нам представляется, - у вас нет никакой возможности сказать на этот счёт что-либо определённое. Такая точка зрения на существование внешнего мира называется скептицизмом.
Возможна и более сильная версия скептицизма. Аргументы, аналогичные приведённым, показывают, что вы ничего не знаете даже о своём собственном существовании в прошлом и о своём прошлом опыте, поскольку все, с чем вы имеете дело, - это наличное в данный момент содержание вашего сознания, включая и впечатления памяти. Если вы не можете быть уверены, что мир вне вашего сознания существует сейчас, то как можно быть уверенным, что сами вы существовали прежде, до настоящего момента? Откуда вы знаете, что не начали существовать всего лишь несколько минут назад, причём уже вместе со всеми своими воспоминаниями? Единственной порукой тому, что вы все-таки не могли появиться на свет пару минут назад, служат наши представления о том, как люди производятся на свет и как у них образуются воспоминания; эти представления, в свою очередь, опираются на представления о том, что происходило в прошлом. Но сослаться на эти представления в доказательство своего существования в прошлом, значит, снова оказаться в замкнутом логическом круге. Вы бы уже исходили из реальности прошлого при доказательстве этой реальности.
Кажется, мы зашли в тупик: вы ни в чем не можете быть уверены, за исключением содержания своего сознания в данный момент. И судя по всему, любые шаги, которые вы попытаетесь предпринять, чтобы выйти из этого затруднения, ничего не дадут: любой ваш аргумент будет строиться на посылке, справедливость которой вы будете стараться доказать, а именно что за пределами вашего сознания существует реальный мир.
Допустим, к примеру, что вы утверждаете: внешний мир должен существовать, поскольку невероятно и немыслимо, чтобы за всеми нашими восприятиями не стояло нечто допускающее хоть какое-то объяснение в терминах внешних причин. В ответ на это скептик может сделать два замечания. Во-первых, даже если такие причины и существуют, как вы можете, исходя из содержания своего опыта, сказать, каковы они? Ведь вы никогда непосредственно не наблюдали ни одной из них. Во-вторых, на чем основано ваше убеждение, что всему должно находиться какое-то объяснение? Действительно, ваше естественное, нефилософское представление о мире исходит из того, что процессы, протекающие в сознании, вызваны — по крайней мере отчасти — внешними по отношению к ним факторами. Но вы не можете принять это представление за истину, если намерены докопаться до сути и понять: откуда вы вообще что-либо знаете о мире вне вашего сознания. А описанный принцип невозможно доказать, просто рассматривая внутреннее содержание вашего сознания. Этот принцип может казаться вам весьма правдоподобным, но какие у вас основания полагать, что он приложим к миру?
Наука тоже не поможет нам справиться с этой проблемой, как бы ни казалось, что она способна на это. Обычно научное мышление опирается на универсальные принципы объяснения, переходя от видимой на первый взгляд картины положения дел в мире к разнообразным концепциям, описывающим мир, как он есть на самом деле. Мы пытаемся объяснить явления на языке теории, описывающей скрытую за ними реальность - реальность, которую мы не можем наблюдать непосредственно. Именно таким образом физика и химия приходят к выводу, что все вокруг состоит из мельчайших и невидимых атомов. Можем ли мы утверждать, что всеобщая вера в существование внешнего мира имеет такую же научную подоплёку и обоснование, как и вера в существование атомов?
Скептик ответит, что научное мышление поднимает всю ту же скептическую проблему, с которой мы уже познакомились: наука столь же уязвима перед ней, как и восприятие. Откуда мы знаем, что мир за пределами нашего сознания соответствует нашим представлениям о правильном теоретическом объяснении наблюдаемых явлений? Если уж мы не можем обосновать надёжность наших чувственных восприятий по отношению к внешнему миру, то думать, будто мы можем опереться на научные теории, у нас тоже нет никаких оснований.
Но к этой проблеме можно подойти и совершенно по-другому. Некоторые утверждают, что подобный радикальный скептицизм - бессмыслица, поскольку бессмысленна сама идея внешней реальности, с которой никто и никогда не может иметь дела. От сна, например, можно проснуться и обнаружить, что вы, оказывается, только что спали. Галлюцинация - это нечто такое, по поводу чего другие люди (и вы сами спустя какое-то время) могут убедиться, что привидевшегося предмета на самом деле просто нет. Восприятия и видимости, которые не соответствуют реальности, обязательно войдут в противоречие с другими восприятиями, которые ей все-таки соответствуют, в противном случае говорить о расхождении видимости и реальности не имеет смысла.
С этой точки зрения сон, от которого вы никогда не можете проснуться, - это вообще не сон: это уже будет реальность, подлинный мир, в котором вы живёте. Наше представление о существующих вещах - это просто представление о том, что доступно наблюдению. (Такой взгляд иногда называют верификационизмом.) Подчас наши наблюдения бывают ошибочны, но это означает лишь, что их можно исправить и уточнить с помощью других наблюдений, как это и происходит, когда вы просыпаетесь или, допустим, обнаруживаете, что приняли за змею тень на траве. Но если правильное представление о вещах (у вас или у кого-нибудь другого) вообще невозможно, то утверждение, что ваши впечатления о мире не истинны, не имеет смысла.
Если сказанное нами справедливо, то получается, что скептик попадает впросак. Он обманывает сам себя, если думает, что может себе представить, будто его собственное сознание - это единственное, что вообще существует. Это именно самообман, поскольку тезис, что физического мира на самом деле не существует, не может быть истинным, если кто-либо не может воочию убедиться, что его не существует. А скептик как раз и пытается представить себе, что нет никого, кто мог бы убедиться в этом и в чем бы то ни было ещё, кроме, конечно, самого скептика; а все, чему он может быть свидетелем-наблюдателем, - это содержание его собственного сознания. Так что, солипсизм - это бессмыслица. Он пытается «вычесть» внешний мир из совокупности моих впечатлений, однако терпит при этом неудачу, ибо в отсутствие внешнего мира они перестают быть просто впечатлениями, а становятся восприятиями самой реальности.
Обладает ли этот аргумент против солипсизма и скептицизма какой-либо силой? Нет, если реальность мы не определяем как нечто доступное нашему наблюдению. Но действительно ли мы не способны понять, что такое реальный мир и факты реальности, которые никто не может наблюдать - ни человек, ни какие-то иные существа?
Скептик скажет: если внешний мир существует, наполняющие его предметы должны быть наблюдаемы именно потому, что они существуют, но не наоборот: существовать - не то же самое, что быть наблюдаемым. И хотя мы извлекаем идею сна и галлюцинации из тех случаев, когда, как сами думаем, мы можем наблюдать противоположность между нашим внутренним опытом и реальностью, эта идея, без сомнения, подходит и к случаям, когда реальность недоступна наблюдению.
Если так, то отсюда, по-видимому, следует, что не такая уж бессмыслица думать, что мир может состоять только лишь из содержания нашего сознания, - хотя ни вы, ни кто-либо другой не смогли бы удостовериться, что так оно и есть на самом деле. А если это не бессмыслица, а возможность, с которой следует считаться, то, опять-таки, любые попытки доказать её ложность неизбежно приведут к безвыходному логическому кругу. Так что, может быть, из тюрьмы вашего сознания тоже нет выхода. Эту ситуацию иногда называют эгоцентрическим тупиком.
И тем не менее даже после всего сказанного я вынужден констатировать: практически невозможно всерьёз поверить, что вещи окружающего нас мира, возможно, в действительности не существуют. Наше приятие и доверие к миру носят инстинктивный и властный характер: мы не можем отказаться от них так просто, из одних только философских соображений. И живём, и действуем мы вовсе не так, как если бы другие люди и предметы не существовали: мы убеждены, что они действительно существуют, даже после того, как тщательно продумали и уяснили себе те аргументы, из которых, казалось бы, следует, что у нас нет никаких оснований для такого убеждения. (У нас могут быть основания для конкретной уверенности в существовании конкретных вещей, например мышки, забравшейся в хлебницу. Но подобная уверенность обоснована общей системой наших представлений о мире. А это меняет дело — ведь такая система уже предполагает существование внешнего мира.)
Если убеждение в существовании мира вне нашего сознания возникает в нас столь естественным образом, то, наверное, для него и не нужно искать оснований. Мы можем просто опереться на него в надежде на свою правоту. По сути, так и поступает большинство из нас, оставив попытки обосновать это убеждение: даже если мы не в состоянии опровергнуть скептицизм, жить в согласии с ним тоже не можем. Но это значит, что мы продолжаем придерживаться самых обычных представлений о мире, невзирая на то, что (а) они могут быть совершенно ложными и что (б) у нас нет никаких оснований исключить такую возможность.
Итак, мы остаёмся при следующих трёх вопросах:
- Можно ли считать осмысленной возможность того, что содержание вашего сознания - это единственное, что существует; или что, если даже мир вне вашего сознания и существует, он совершенно не похож на то, каким вы себе его представляете?
- Если такое положение вещей возможно, то есть ли у вас какие-нибудь средства доказать самим себе, что все на самом деле обстоит не так?
- Если вы не в состоянии доказать, что вне вашего сознания хоть что-нибудь существует, допустимо ли тем не менее продолжать верит в существование внешнего мира?
Другие сознания
Существует особая разновидность скептицизма, сохраняющая свою значимость, даже если вы признаете, что ваше сознание - не единственное, что реально существует, а есть ещё физический мир, который мы видим и ощущаем вокруг себя, включая и наше собственное тело. Речь идёт о скептицизме по поводу природы и даже самого существования иных сознаний, иного, чем наш, опыта.
Что мы знаем о том, что происходит в чужом сознании? Ведь нашему наблюдению доступны только тела других существ, не исключая и людей. Вы смотрите на то, что они делают, слышите их речь и другие звуки, которые они издают, видите, как они реагируют на окружающее - что их привлекает, а чего они избегают, что они едят и т.д. Вы можете, кроме того, произвести вскрытие и посмотреть, как физически устроено тело того или иного существа, сравнив, если нужно, его анатомию со своей собственной.
Но ничто из перечисленного не даёт вам прямого доступа к их переживаниям, чувствам и мыслям. Единственный по-настоящему доступный нам внутренний опыт - это наш собственный, а любые представления о психической жизни других существ основаны на наблюдении за их поведением и физическим строением их тел.
Простой пример: вы с приятелем лакомитесь шоколадным мороженым. Откуда вы знаете, что оно на вкус такое же для него, как и для вас? Вы можете отведать его порцию, но, если она такая же на вкус, как и ваша, это означает лишь, что они одинаковы по вкусу для вас: вы не можете почувствовать, каково мороженое на вкус для него. И нет, по-видимому, никакой возможности непосредственно сравнить два этих вкусовых ощущения.
Конечно, вы можете сказать, что поскольку вы оба обладаете одной и той же человеческой природой и умеете отличать сорта мороженого по вкусу (например, с закрытыми глазами можете определить, где шоколадное, а где ванильное мороженое), то, скорее всего, ваши вкусовые ощущения одинаковы. Но откуда вы знаете, что это так? Единственная доступная вам связь между сортом и вкусом мороженого - это ваш собственный вкусовой опыт. Так какие же у вас основания думать, что подобная взаимосвязь имеет место и у других людей? Что противоречивого в том, что шоколад на вкус другого человека таков же, как ваниль - на ваш, и наоборот?
Этот же вопрос можно задать и по поводу других форм опыта. Откуда вы знаете, что красный цвет не воспринимается вашим приятелем так же, как вами - жёлтый? Разумеется, если вы спросите его, какого цвета пожарная машина, то он ответит: красного, как кровь, а не жёлтого, как одуванчик. Но ответит так потому, что, как и вы, использует слово «красный» для описания цвета пожарной машины и крови, как он этот цвет воспринимает и независимо от того, каков бы этот цвет ни был на самом деле. Возможно, для него это тот цвет, который вы называете жёлтым или синим, а может, это такой цвет, какого вы никогда не видели и даже не можете себе представить.
Чтобы опровергнуть сказанное, вам придётся допустить, что вкусовые и цветовые восприятия единообразно и неизменно взаимосвязаны с определёнными физическими раздражениями органов чувств у всех людей. Однако скептик сказал бы, что никаких свидетельств в пользу подобного допущения у вас нет; а в силу самого характера последнего и не может быть, поскольку вашему наблюдению доступна подобная взаимосвязь только в вашем же собственном случае.
Столкнувшись с этим возражением, вам приходится согласиться, что в нем есть кое-какой резон. Соотношение между физическими раздражителями и восприятиями может и не быть в точности тем же самым у разных людей: вкусовые и цветовые ощущения у двух любителей одного и того сорта мороженого могут несколько отличаться. В этом нет ничего удивительного, учитывая, что все люди физически в чем-то отличаются друг от друга. Но вы можете сказать, что различия в восприятиях не могут быть слишком велики, иначе мы смогли бы это сразу заметить. Например, не может быть, чтобы шоколадное мороженое было на вкус для вашего приятеля таким же, как для вас лимон — в противном случае вы бы увидели это по выражению его лица.
Заметим себе, что последнее утверждение исходит из допущения уже другой общей для всех людей взаимосвязи — взаимосвязи между внутренним опытом и определённого рода наблюдаемыми реакциями. Но и здесь остаётся в силе все тот же вопрос. Ведь связь между перекошенным лицом и тем, что вы называете кислятиной на вкус, вы наблюдаете только в своём собственном случае: откуда вы знаете, что та же самая связь существует и в других людях? А может, рот вашего приятеля скривился от того же ощущения, которое испытываете вы, когда едите овсянку?
Если мы будем последовательно и настойчиво задавать себе подобные вопросы, то перейдём от умеренного и безобидного скептицизма («Один ли и тот же вкус у шоколадного мороженого для вас и вашего приятеля?») к скептицизму гораздо более радикальному: а есть ли вообще хоть какое-то сходство и подобие между вашими и его восприятиями и переживаниями? Откуда вам известно, что, кладя что-то в рот, он вообще испытывает ощущение, которое вы называете вкусом? А вдруг это нечто такое, что вы назвали бы звуком, или нечто даже вовсе непохожее ни на что из того, что вы когда-либо испытывали или могли себе вообразить?
Если и дальше рассуждать в том же духе, мы придём, в конечном счёте, к самому радикальному скептицизму во всем, что касается сознания других людей. С чего вы взяли даже, что ваш приятель наделён сознанием? Откуда вы знаете, что вообще существуют какие-то другие сознания, кроме вашего собственного?
Единственным непосредственно доступным вашему наблюдению примером взаимосвязи между сознанием, поведением, анатомией и внешними физическими факторами является ваш собственный опыт. Даже если бы у других людей и животных не было бы никаких переживаний и восприятий, вообще никакой внутренней психической жизни и они представляли бы собой всего лишь сложные биологические машины, - внешне они выглядели бы для вас точно так же. Так откуда же вы знаете, что они не таковы? Откуда вы знаете, что все другие существа вокруг вас - не лишённые сознания роботы? Ведь вы же никогда не заглядывали внутрь их сознания - да это попросту и невозможно, - а их физическое поведение, возможно, целиком обусловлено чисто физическими причинами. Может быть, у ваших близких, соседей, у вашей кошки или собаки вообще нет никаких внутренних переживаний. А так это или не так - вы никоим образом и никогда не сможете установить.
Вы не можете даже сослаться на свидетельства их поведения, включая и то, что они сами говорят по этому поводу, поскольку это предполагало бы в них такую же взаимосвязь внешнего поведения с внутренним опытом, как у вас самих; но как раз это-то вам и неизвестно.
Допуская возможность, что никто из окружающих не обладает сознанием, испытываешь жутковатое чувство. С одной стороны, такая возможность вполне логически мыслима, и никакими свидетельствами и очевидностями вы её полностью не опровергнете. С другой - это нечто такое, в возможность чего вы не в состоянии по-настоящему поверить: вы инстинктивно убеждены, что во всех этих телах присутствует сознание, что эти глаза видят, а уши - слышат. Но если это убеждение инстинктивно, может ли оно быть подлинным знанием? Если уж вы допускаете возможность ошибочности своей веры в существование других сознаний, то разве не нужны какие-то более веские основания, чтобы эту веру оправдать?
У этого вопроса есть и другая сторона, которая ведёт мысль в совершенно ином направлении.
Как правило, в повседневной жизни все мы исходим из убеждения в сознательности окружающих; очень многие убеждены, что сознанием одарены также млекопитающие и птицы. Но вот в вопросе о том, сознают ли рыбы, насекомые, черви или медузы, мнения людей расходятся. Ещё более сомнительно, что сознательными восприятиями обладают одноклеточные существа вроде амёбы и инфузории, хотя и эти создания явственно реагируют на разнообразные раздражители. Большинство из нас убеждены, что у растений нет сознания, и уж практически никто не верит в сознание камня, горного озера, автомобиля или сигареты. Большинство из нас также — если вновь прибегнуть к примеру из биологии — сказали бы, поразмыслив, что отдельные клетки, из которых состоит наше тело, не испытывают никаких сознательных восприятий.
Но откуда мы все это знаем? С чего вы взяли, что дереву не больно, когда вы обрубаете у него сук? С того только, что оно не может выразить своей боли, поскольку не может двигаться? (А может, ему нравится, когда с него срезают ветви?) Откуда вы знаете, может, клетки вашей сердечной мышцы испытывают боль и крайнее волнение, когда вы вскачь взбегаете по крутой лестнице? Почему вы уверены, что ваш носовой платок ничего не чувствует, когда вы прибегаете к нему при насморке?
А как насчёт компьютеров? Допустим, что их развитие достигло уровня, когда они могут управлять роботом, который внешне неотличим от собаки, ведёт себя очень похоже и способен к сложной ориентации в окружающей среде — но при этом внутри остаётся просто множеством микросхем и кремниевых чипов. Могли бы мы каким-нибудь образом узнать, обладают или нет такие машины сознанием?
Конечно, приведённые примеры отличаются друг от друга. Если некая вещь не способна двигаться, она никак не может подтвердить своим поведением наличие чувств и восприятий. И если это не организм естественного происхождения, то по своему внутреннему устройству он будет радикально отличаться от нас. Но какие у нас основания полагать, что только те объекты, чьё поведение чем-то напоминает наше и чья видимая физическая структура в общих чертах сходна с нашей же, — что только они способны хоть на какие-нибудь восприятия и переживания? Весьма возможно, что деревья тоже чувствуют, только их чувства совершенно не похожи на наши, а мы не в состоянии ни понять эти чувства, ни убедиться в их наличии, поскольку нам недоступна взаимосвязь между их внутренним опытом, его внешним проявлением и соответствующим воздействием физических условий. Мы могли бы установить подобную взаимосвязь лишь в том случае, если бы нам одновременно были доступны для наблюдения и внутренний опыт, и его обнаружение во внешних проявлениях. Но непосредственный доступ к внутреннему опыту возможен для нас только в нашем собственном случае. По той же самой причине мы никоим образом не можем убедиться в отсутствии каких-либо переживаний, а значит, и какой-либо взаимосвязи подобного рода, во всех иных случаях. Оснований утверждать, что дерево ничего не чувствует, у вас не больше, чем заявлять, что у червяка есть внутренний опыт — ведь в обоих случаях заглянуть внутрь невозможно.
Итак, вопрос заключается в следующем: что вы на самом деле можете знать о сознательной жизни других существ помимо того факта, что сами-то вы сознанием обладаете? Не может ли оказаться так, что сознательной жизни на свете гораздо меньше, чем вы предполагаете (вообще никакой, кроме вашей), или же, наоборот, гораздо больше (она присуща даже тем объектам, которые вы считали полностью лишёнными какого-либо сознания)?
Проблема «Сознание - тело»
Оставим в стороне скептицизм и предположим, что физический мир существует, включая ваши тело и мозг. Оставим и скептицизм по отношению к другим сознаниям. Я буду исходить из того, что вы обладаете сознанием, если вы согласитесь думать обо мне так же. Теперь зададимся вопросом: какова может быть связь между сознанием и мозгом?
Всем известно, что то, что происходит в сознании, зависит от того, что происходит с телом. Если ушибёшь колено, оно болит. Если закроешь глаза — перестаёшь видеть окружающее. Надкусишь плитку шоколада — ощутишь его вкус. Сильный удар по голове - и человек теряет сознание.
Все явственно свидетельствует: чтобы нечто произошло в вашем уме или сознании, должно что-то произойти в вашем мозгу. (Вы бы не ощутили боли в ушибленном колене, если бы по нервной системе не прошёл импульс от ноги через спинной мозг в мозг головной.) Мы не знаем, что происходит в мозгу, когда вы думаете: «Интересно, успею я сегодня зайти в парикмахерскую?» Но мы совершенно уверены: что-то обязательно происходит - что-то связанное с электрохимическими изменениями в миллиардах нервных клеток, из которых состоит наш головной мозг.
В отдельных случаях нам известно, как мозг воздействует на сознание, а сознание — на мозг. Например, мы знаем, что возбуждение участков мозга в затылочной части головы вызывает зрительные образы. Известно и то, что, когда вы решаетесь взять ещё один кусок торта, определённые группы других нервных клеток посылают импульс мускулам вашей руки. Конечно, мы не знаем многих деталей, но одно ясно: сложные связи между тем, что происходит в нашем сознании, и теми физическими процессами, которые протекают в нашем мозгу, существуют. Как это происходит конкретно - вопрос науки, а не философии.
Но есть и философский вопрос касательно отношения сознания и мозга, и заключается он в следующем: является ли ваше сознание чем-то отличным от вашего мозга, хотя бы и связанным с ним, или же оно и есть ваш мозг? Представляют ли собой ваши мысли, чувства, восприятия, ощущения и желания нечто такое, что происходит в дополнение ко всем физическим процессам в мозгу, или же они сами суть некоторые из этих процессов?
Что происходит, к примеру, когда вы откусываете от плитки шоколада? Шоколад тает на вашем языке, вызывая химические изменения во вкусовых рецепторах; последние посылают электрические импульсы по нервным волокнам, соединяющим язык и мозг, и, когда эти импульсы достигают определённого участка мозга, они вызывают там дальнейшие физические изменения; в конечном счёте вы ощущаете вкус шоколада. Но что это такое? Может, это просто физическое событие в каких-то клетках головного мозга или же это нечто такое, что обладает совершенно иной природой?
Если бы учёный-естествоиспытатель мог заглянуть под крышку вашей черепной коробки и посмотреть на ваш мозг в ту минуту, когда вы лакомитесь шоколадом, он увидел бы лишь серую массу нейронов. Если бы он применил измерительную аппаратуру, чтобы определить, что происходит в недрах вашего мозга, то обнаружил бы сложнейшие и многообразные физические процессы. Но нашёл бы он там вкус шоколада?
Думается, что он не нашёл бы его в вашем мозге, поскольку вкусовые ощущения от шоколада замкнуты в вашем сознании таким образом, что они недоступны никакому стороннему наблюдателю - даже если тот вскроет ваш череп и заглянет в самый мозг. Ваши переживания находятся внутри вашего сознания, и характер этого «внутри» иной, чем у положения мозга внутри головы. Кто-то другой может вскрыть вашу голову и посмотреть на её содержимое, но никто не может вскрыть ваше сознание и заглянуть в него - во всяком случае, одним и тем же способом.
Дело не только в том, что вкус шоколада - это именно вкус, и, следовательно, его нельзя увидеть глазами. Допустим, что упомянутый учёный настолько увлёкся и забылся, что пытается отследить ваше вкусовое ощущение от шоколада, пробуя на вкус ваш мозг, пока вы едите шоколад. Но, во-первых, ваш мозг, наверное, вряд ли вообще напомнит ему по вкусу шоколад. Но даже если бы и напомнил, ему бы все равно не удалось проникнуть в ваше сознание и пережить ваше ощущение вкуса шоколада. Он всего лишь обнаружил бы, сколь бы странным это ни показалось, что, когда вы едите шоколад, ваш мозг изменяется таким образом, что приобретает вкус шоколада, как его воспринимают другие люди. У него было бы своё ощущение вкуса шоколада, а у вас - своё.
Если ваши восприятия переживаются внутри сознания, причём не так, как протекают процессы в вашем головном мозге, то, похоже, восприятия и прочие ментальные состояния не могут быть просто физическими состояниями вашего мозга. Они должны быть чем-то большим, чем ваше тело с его сложной и напряжённо действующей нервной системой.
Один из возможных выводов состоит в том, что должна существовать душа, связанная с телом как-то так, что они могут взаимодействовать. Если это справедливо, то вы состоите из двух весьма разнородных начал: сложно организованного физического организма и души, которая существует чисто ментально. (Такой взгляд - по очевидным причинам - носит название дуализма.)
Однако многие считают, что вера в существование души устарела, что она ненаучна. Все что ни есть в мире состоит из физической материи - различных комбинаций одних и тех же химических элементов. Почему же с нами должно быть иначе? Наши тела развиваются посредством сложных физических процессов из одной-единственной клетки, возникающей при зачатии в результате слиянии сперматозоида и яйцеклетки. Материя накапливается по ходу этих процессов постепенно, по мере того, как оплодотворённая яйцеклетка превращается в младенца с руками, ногами, ушами, глазами и мозгом и который уже способен двигаться, чувствовать и видеть, а в конце концов - и говорить, и думать. Некоторые из нас убеждены, что эта сложная физическая система - достаточное само по себе условие для начала ментальной жизни. Почему бы и нет? Да и как можно чисто философскими аргументами доказать, что это не так?
Не может же философия сказать нам, из чего состоят звезды и алмазы, так откуда же ей знать, из чего состоят или не состоят люди?
Тот взгляд, что в людях не ничего, кроме физической материи, и что состояния их сознания суть физические состояния их мозга, называется физикализмом (или, иногда, материализмом). У физикалистов нет специальной теории о том, какие же процессы в головном мозге можно отождествить с переживанием, допустим, вкуса того же шоколада. Но они убеждены, что ментальные состояния суть именно и просто состояния мозга и что нет никаких философских резонов полагать, что это может быть иначе. Ну а детали - это дело научных изысканий и открытий.
Идея здесь та, что мы можем узнать, что восприятия действительно суть процессы в головном мозгу, точно так же как мы когда-то узнали, что подлинная сущность привычных нам вещей такова, что мы не могли бы о ней догадаться, не будь она установлена сугубо научными методами. Оказывается, например, что бриллианты состоят из углерода - того же материала, что и каменный уголь, только структура атомной решётки у них различная. А вода, как все мы теперь знаем, состоит из атомов водорода и кислорода, хотя оба этих газа сами по себе ничем не напоминают воду.
Поэтому то, что ощущение вкуса шоколада не может быть не чем иным, как сложным физическим событием в вашем мозге, выглядит не более удивительно, чем множество открытий, сделанных в отношении подлинной сущности общеизвестных объектов и процессов. Учёные уже установили, что такое свет, как произрастают растения, как сокращаются мышцы; так что, раскрытие биологической природы сознания - всего лишь вопрос времени. Так думают физикалисты.
А дуалист ответит, что все эти примеры говорят совсем о другом. Когда мы устанавливаем, к примеру, химический состав воды, мы имеем дело с чем-то, что явно находится вне нас и принадлежит физическому миру - с чем-то, что все мы можем рассмотреть и пощупать. Когда мы обнаруживаем, что вода состоит из кислорода и водорода, мы просто разлагаем данное вовне физическое вещество на составляющие его физические же элементы. Сущность такого рода анализа как раз и заключается в том, что он не подвергает химическому разложению наше зрительное, вкусовое и тактильное ощущение воды. Эти ощущения имеют место в нашем внутреннем опыте, а не в воде, которую мы разлагаем на атомы. Физико-химический анализ не имеет к ощущениям никакого отношения.
Для установления того, что ощущение вкуса шоколада на самом деле - это процесс в головном мозге, мы должны были бы проанализировать нечто ментальное - не физическое вещество, доступное внешнему наблюдению, а внутренне данное вкусовое ощущение - на языке физических сущностей. Но бесчисленные физические события в головном мозге при всей их сложности никоим образом не могут быть частями, из которых состоят вкусовые ощущения. Физическую целостность можно разложить на более мелкие физические компоненты, а ментальный процесс - нельзя. Физические компоненты попросту невозможно включить в ментальную целостность.
Существует и ещё одна возможная точка зрения, отличная как от дуализма, так и от физикализма. Дуализм утверждает, что вы состоите из тела и души и вся ментальная жизнь протекает в душе. Физикализм — что вашу ментальную жизнь составляют физические процессы, протекающие в головном мозге. Но ещё одна возможность заключается в том, что ментальная жизнь протекает внутри мозга, но так, что при этом все восприятия, чувства, мысли и желания не являются физическими мозговыми процессами. Это означало бы, что серая масса из миллиардов нервных клеток, содержащаяся в вашей черепной коробке, - не только физический объект. У неё множество физических свойств - в ее недрах происходит огромное количество электрохимических процессов и событий, - но также протекают и ментальные процессы.
Точка зрения, согласно которой мозг есть место обитания сознания, но его сознательные состояния имеют не просто и не только физический характер, получило название двуаспектной теории. Она называется так, поскольку предполагает, что, когда вы надкусываете плитку шоколада, в головном мозге возникает состояние, или процесс, имеющий две стороны: физическую, включающую разнообразные физико-химические изменения, и ментальную — ощущение вкуса шоколада. Когда этот процесс происходит, учёный, изучающий ваш мозг, может наблюдать его физический аспект, а сами вы - изнутри - переживаете этот процесс с его ментальной стороны: вы ощущаете вкус шоколада. Если эта теория справедлива, то сам мозг обладает внутренним измерением, недоступным для внешнего наблюдателя, даже если тот прибегает к анатомическому вскрытию. Именно в этом измерении вы переживаете определённым образом вкусовое ощущение, когда соответствующий процесс протекает в вашем мозге.
Данную теорию можно сформулировать и так: вы — не тело плюс душа; вы — только тело, но ваше тело (по крайней мере, головной мозг) — это не только и не просто физическая система. Это объект, у которого имеются как физический, так и ментальный аспекты: его можно вскрыть и проанатомировать, но при этом не обнаружить и не выявить его внутренней стороны. Есть нечто такое, что изнутри ощущается как вкус шоколада, потому что у мозга есть внутреннее состояние, которое возникает, когда вы едите шоколад.
Физикалисты убеждены, что не существует ничего, кроме физического мира, который может быть изучен наукой, - мира объективной реальности. Но тогда им нужно каким-то образом изыскать в таком мире место для чувств, желаний, мыслей и восприятий - то есть для вас и для меня.
Одна из теорий, выдвинутых в поддержку физикализма, утверждает, что ментальная природа ваших состояний сознания заключается в связи последних с явлениями, которые их вызывают, и явлениями, которые они сами вызывают. Например, когда вы ударяетесь коленом и чувствуете боль, эта боль есть нечто такое, что происходит в вашем мозге. Но болезненность боли - это не только сумма его физических характеристик, но однако же и не некое таинственное сверхфизическое свойство. Скорее, то, что делает боль болью - это именно такие состояния вашего мозга, которые обычно вызываются ушибами и, в свою очередь, заставляют вас орать благим матом или корчиться и всячески избегать столкновения с травмирующими предметами. А такое состояние мозга может быть чисто физическим.
Но, по-видимому, этого ещё недостаточно, что бы нечто стало болью. Верно, конечно, что ушибы причиняют боль, заставляя нас вопить и корчиться. Но ведь боль ещё особым образом ощущается, а это, очевидно, нечто иное, чем любые её связи с причинами и их следствиями, а равно и любые физические свойства, которыми она может обладать, - если только боль на самом деле есть событие в вашем головном мозге. Сам я убеждён, что эта внутренняя сторона боли и других осознанных переживаний не может быть как-либо адекватно проанализирована на языке любой системы причинных отношений с физическими стимулами и поведением, сколь бы сложны ни были эти отношения.
Получается, что в мире существуют два рода весьма различных вещей: вещи, принадлежащие физической реальности и доступные наблюдению извне множеству разных людей; и вещи иного рода, относящиеся к ментальной реальности, которые каждый из нас переживает изнутри собственного опыта. Это справедливо не только по отношению к человеку: собаки, кошки, лошади и птицы производят впечатление сознательных существ. Может быть, таковы же и рыбы, муравьи и жуки? Кто знает, где обрывается этот ряд?
У нас не будет адекватной обшей концепции мира до тех пор, пока мы не сможем объяснить, как это соединённое определённым образом множество физических элементов образует не просто дееспособный биологический организм, но сознательное существо. Если бы сознание, как таковое, можно было отождествить с каким-то физическим состоянием или структурой, то открылась бы возможность для создания единой физической теории сознания и тела, а следовательно, наверное, и для единой физической теории всего универсума. Однако аргументы против чисто физической теории сознания настолько сильны, что, похоже, единая физическая теория всей реальности в целом невозможна. Физическое познание шло от успеха к успеху, исключив сознание из круга явлений, которые оно пыталось объяснить; но в мире, возможно, есть много такого, что не может быть понято средствами физической науки.